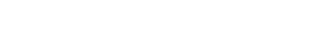II сессия
12.08.2025
На главную |
|---|
Стенограммы
II сессия |
|---|
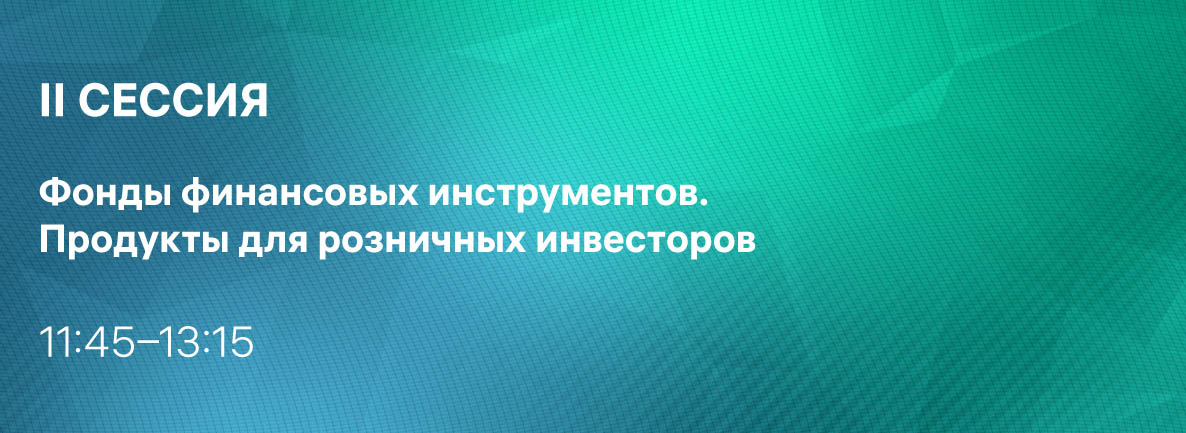
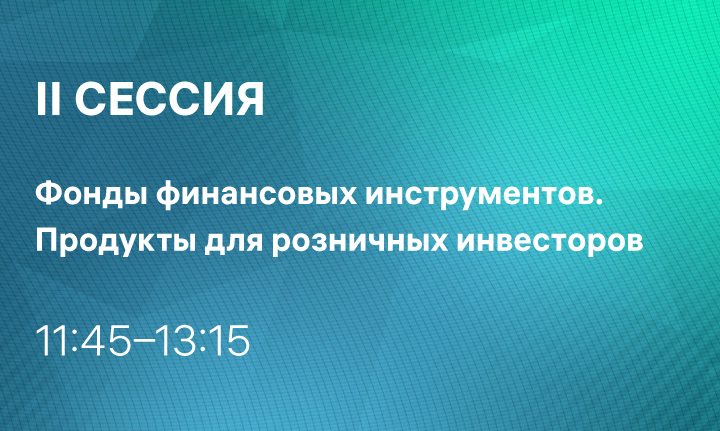
Реализация проектов ИИС-ПИФ и ДСЖ. Биржевые фонды. Дистрибуция паев, текущая и будущая роль брокеров и финансовых платформ. Расширение доступных стратегий, Повышение привлекательности ПИФ для розничных инвесторов.
Участники: | |
| 1. Бородатова Маргарита, генеральный директор УК ДОХОДЪ | |
| 2. Горанский Олег, директор по правовым вопросам УК «Первая» | |
| 3. Красинский Валерий, заместитель директора департамента - начальник управления регулирования департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России | |
| 4. Митюков Евгений, портфельный управляющий Т-Капитал | |
| 5. Сердюков Владимир, генеральный директор УК ПСБ | |
| 6. Целищев Дмитрий, управляющий директор ИК Риком-Траст | |
| 7. Брагин Владимир, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» (модератор) |
Владимир Брагин: Всем добрый день!
Я предлагаю начинать нашу вторую сессию. Вторая сессия у нас посвящена розничным продуктам, розничным фондам. Я как модератор планировал начать именно с того, как у нас прошли первые полгода, что у нас произошло на рынке, как вообще рынок развивался, куда мы двигались, как клиентов привлекали, как обучали и т.д.
Давайте на правах модератора немножечко дам такую затравку. Для нас первая половина года была такой несколько смешанной, то есть, с одной стороны, были и плюсы, были и минусы. Мы действительно, несмотря на то, что спрос инвесторов концентрировался в таких фондах денежного рынка по-прежнему, все-таки активно расширяли продуктовую линейку, в первую очередь БПИФы, и насколько мне коллеги подсказали, примерно треть фондов, которые были запущены вообще на рынке, это были фонды «Альфа Капитал».
Дальше действительно мы так активно, в общем-то, смотрели на варианты привлечения инвесторов в самые разные фонды. То есть понятно, что для рынка акций ситуация была достаточно сложной, и, конечно же, когда мы говорим про результаты фондов, и, к сожалению, ну что бы кто ни делал, то в текущих обстоятельствах сильно уйти от … рынка мы не можем. То есть рынок акций был слабым, ну и, соответственно, результаты фондов. И, кстати говоря, спрос клиентов, к сожалению, по-прежнему фокусировался на тех продуктах, которые показывали хорошие результаты, а это в первую очередь, конечно же, рынок коротких облигаций, то есть с плавающим купоном, и, конечно же, денежный рынок.
Новацией этого полугодия стали, конечно, авторские фонды. Мы тоже запустили у себя несколько фондов. Результаты пока, наверное, ну скажем так, смешанные. Потому что, действительно, фонды запущены, они работают, результаты в целом, я бы так сказал, неплохие, то есть где-то очень хорошие, где-то не очень, но в целом, на мой взгляд, очень неплохие. Но вопрос возник с тем, как, собственно говоря, теперь в эти фонды привлекать клиентов, потому что, действительно, с одной стороны есть вот эта идея о том, что авторские фонды блогеры смогут их активно продавать, ну вот сейчас происходит как раз тестирование этой вещи на практике.
Двигались в том числе и по непубличным инструментам, по закрытым паевым фондам для квалифицированных инвесторов, запустили сделку одну интересную по непубличным историям, ну, в общем, шли по всем направлениям. Поэтому я предлагаю начать дискуссию.
Начнем, наверное, с Олега Горанского. У вас, насколько я знаю, очень интересное было направление, которое пока, я так понял, немногие пытались, - это ИИС-ПИФ. Расскажите подробнее, как вы прожили первые полгода.
Олег Горанский: Добрый день, коллеги! Спасибо за возможность рассказать про наш продукт.
Хотел начать с того, что было интересно инвесторам в начале года и что мы видим дальше. Начало года и, наверное, до конца года мы видим, что тренд все-таки будет оставаться интереса в фондах денежного рынка, по-прежнему инвесторы с удовольствием идут в эти стратегии, но менее интересно смотрят на облигации и на акции. Но облигационный рынок вроде начал оживать, и облигационные фонды показывают определенный рост привлечений, чему мы, конечно, рады.
Но вернемся к ИИС-ПИФ. Это достаточно инновационный продукт, обсуждался он на рынке достаточно давно, мне кажется, первый раз это обсуждение было еще в 2020-м, в период ковида, когда регулятор обращал наше внимание на то, что покупать паи наших фондов в стратегии доверительного управления стандартные может быть сомнительной практикой. И тогда родилась идея создания такого продукта на базе ПИФов.
Нормативка, которая у нас есть, получилась достаточно понятной и эффективной. Был ряд вопросов юридического толка, которые приходилось нам разрешать. Сейчас мы видим, что механизм рабочий.
В начале июня мы запустили первый на рынке ИИС-ОПИФ под названием «Левитан». Продукт, к сожалению, не выстрелил в том виде, в котором мы ожидали. За прошедшие два месяца мы смогли в него привлечь около 50 млн рублей, что для нас не выглядит хорошим результатом. Но тем не менее мы планируем линейку наших фондов развивать, и до конца года планируем запустить как минимум один, а может быть, и два фонда, для того чтобы закрыть и облигационную, и акционную стратегии и предоставить инвесторам возможность динамически выбирать то, как они хотят инвестировать средства, находящиеся на ИИСе.
Что из проблем нам видно на текущий момент? Это проблема, конечно, долгосрочных инвестиций. С одной стороны, нам и президент, и Банк России говорят о том, что нам целесообразно делать длинные продукты, для того чтобы увеличивать долгосрочную капитализацию нашего рынка. С другой стороны, мы видим, что для многих клиентов, по отзывам клиентских менеджеров, пятилетний срок открытия ИИСа - это очень много, и они не готовы вкладывать на такой срок.
Да, наверное, эта проблема решается образованием. Но, кажется, что если у нас срок ИИСа будет динамически повышаться в течение следующих лет до 10 лет, это будет большой проблемой для развития ИИС-ПИФ, ну и вообще всей линейки ИИСов, которая у нас сейчас предусмотрена.
Также для многих является проблемой отсутствие возможности вывода купонов дивидендов со счета ИИС без прекращения ИИС. Также отдельный вопрос, с которым мы раньше не сталкивались, сейчас у нас разрешено выводить денежные средства с ИИСа в случае особых жизненных ситуаций, и сейчас они связаны в основном с заболеваниями. И оказалось отдельной такой задачей, как научить розничную сеть получать от клиентов корректные документы для того, чтобы они могли реализовать эту льготу. У нас пока прошло только обучение и не было кейсов, когда фактически приносили такие справки, ну мы с интересом смотрим на то, каким будет такой первый случай, не дай бог, он у кого-то наступит. Но тем не менее это отдельная проблема, потому что нет типовой формы справки, соответственно, мы ожидать там все что угодно, любые диагнозы, которые не факт, что будут соотноситься с теми, на которые нам можно выводить. Ну, наверное, эта проблема может быть разрешима.
В целом продукт интересный, мы планируем в дальнейшем развивать эту линейку и стимулировать привлечение в него.
Спасибо.
Владимир Брагин: Олег, а можно вопрос от меня? Просто мы когда говорим по ИИС и говорим, что это пятилетний продукт в первую очередь, ну то есть, собственно говоря, это длинная инвестиция. А вот как вы относитесь, потому что у нас есть некая идея такая - подумать, предложить, чтобы в ИИС все-таки были не совсем ПИФы, потому что там вопрос ликвидности, а, например, инвестиционные продукты, которые по природе сами по себе неликвидны, например, недвижимость или прямые инвестиции. Вот как вы вообще на это смотрели, думали об этом?
Олег Горанский: Честно, наша компания больше ориентирована все-таки на ценно-бумажные инструменты, и в плане ценных бумаг мы, конечно, стремимся предложить клиенту максимальную диверсификацию, хотя мы видим, что, по статистике, по ИИСам мы один из крупнейших операторов на ПДУшном, мы видим, что распределение интереса клиентов там на 80% в районе самых консервативных стратегий. Даже смешанные и акционные стратегии, они там занимают порядка смешанные - 7 с чем-то процентов и меньше 5 - это акционные.
Поэтому концептуально как идея я думаю, что это интересная мысль, уверен, что Екатерина нас поддержит с ИИСом на ЗПИФы. Но, кажется, что это сложная история.
Владимир Брагин: Спасибо, Олег.
Мы немножко просто с разных аспектов сегодня хотели обсудить проблему как раз розничных инвестиций первого полугодия.
И слово хочу передать Митюкову Евгению из «Т-Капитал» - рассказать больше про БПИФы немножко с другой стороны, уже пойдем с другой стороны - именно ликвидные, розничные, ну и, наверное, без налоговых преимуществ, как я понимаю, или с ними?
Евгений Митюков: Нет, конечно, с ними, как же без налоговых преимуществ.
Коллеги, добрый день!
Хочется начать, наверное, от общего к частному. Мы сегодня получили очень хорошие общие цифры от Ольги Юрьевны Шишлянниковой, от Александра Абрамова, которые показали нам, что рынок наш на самом деле не очень большой. И в этом плане хочется присоединиться к Екатерине, повозмущаться, что как так - всего 3 трлн рублей, и сразу вспомнить известную фразу: «Раз вы такие умные, что ж вы такие бедные» в плане активов.
Почему так получилось? Мы понимаем, что на самом деле вот эта ситуация, она не живет в отрыве от той рыночной среды, в которой мы все живем, которую мы ощущаем в реальности, ну или, как многие наши инвесторы в «Т-Капитале», на экране мобильного телефона. Это нужно понимать.
И тут хочется выделить три главных тренда, которые влияли на то, как, собственно говоря, жил рынок БПИФов в первом полугодии.
Первый тренд, конечно же, - это все еще высокая ключевая ставка. Да, у нас продолжается крестовый поход против инфляции. Центральный банк уверенно идет к победе. Вчера мы как раз видели очередную недельную битву за инфляцию, инфляция была побеждена в пух и прах, когда мы увидели минус 0,05. Посмотрим, что будет в пятницу. Но все равно еще инвесторы, которые смотрят на эти цифры, видят ключевую ставку 20% и как бы говорят: «А зачем мне рисковать?». Они у нас в целом вообще пугливые, не толерантны к риску, у них нет долгосрочного горизонта. И когда им дают эффективный депозит, а денежный рынок - это эффективный депозит, там нет маржинальности банка, ну или она минимальная, там нет каких-то комиссий, там есть максимальная ликвидность, и они говорят: «Вот! Это мне надо». И вот, собственно говоря, на всей вот этой истории индустрия ехала весь прошлый год, наращивая СЧА фондов денежного рынка, и это продолжалось еще в первом полугодии этого года.
У нас, выражалось это в БПИФе, потому что у нас некий неудовлетворенный спрос экосистемы на этот продукт, мы его запустили(?) чуть позднее. У коллег, я знаю, у УК «Первая» это уже продолжалось в виде ОПИФа, когда у них есть продукт, который в принципе ориентирован на такой квазиденежный рынок или очень похож денежный рынок, но уже ОПИФ. И вот это был тренд.
Да, сейчас уже мы все видим, что вот этот поезд или эта станция - высокая ключевая ставка - как бы там поезд начинает уезжать, и инвесторы начинают переключаться в следующую историю - как отыграть снижение ставки. И в последние два месяца уже есть некий спрос на облигационные продукты. Да, это как фонды на ОФЗ, да, у нас есть такой, как в принципе в целом облигационные фонды корпоративного сегмента, где как бы уже идут притоки, в том числе у нас и в том числе у других коллег на рынке. Но это история … политики, всем нам понятна, всем известна, и как она отыгрывается, я тоже думаю, что ни у кого не вызывает сюрпризов.
Вторая история, это история такая более тяжелая - это рынок акций. Капитализация у нас на рынке акций, если по фри-флоат ее считать, порядка 6 трлн рублей, и все ПИФы на российские акции - это около 400. Вот к чему мы пришли, вот как у нас распределен рынок коллективных инвестиций на рынке акций.
Почему так? Ну потому что люди, которые принимают тут волатильность, которые толерантны к ней, они не идут в ПИФы, они как бы считают, что они сами все знают. Не то чтобы они все знают по их доходностям, но вот у них есть такая уверенность. А вот массовый инвестор, он готов идти в денежный рынок, может быть, в облигации в свое время, но не в рынок акций. Почему? Потому что к текущей волатильности, а она очень высокая, то есть волатильность рынка акций, мы все помним вот эти ночные звонки, переговоры президента Путина с президентом Трампом - рынок улетает вверх, потом вводятся тарифы на торговлю Америки со всем миром - рынок улетает вниз, потом еще какие-то истории, что переговорный трек замедляется, прогресса нет - и вот эта волатильность, она инвестору очень некомфортна. Ему было комфортно году в 2013, когда рынок более-менее спокойно рос, волатильность была невысокой, и он туда приносил свои деньги, не то чтобы очень большие, но приносил. Сейчас, в текущей волатильности, ему это неинтересно, и это проблема, которая… ну за него надо бороться, только когда она будет снижаться. Тогда это будет какое-то время акций, оно, конечно, безусловно, настанет, но пока там спроса, как подтверждают коллеги, мы не видим никакого.
Мы запускаем продукты, то что Александр Абрамов говорил, что вот факторные фонды. Мы запустили факторный фонд, он показывает хороший перформанс, мы понимаем, как это работает, но как такого спроса и трекшена на это не возникает в данный момент. И вот это реальность, которую мы сейчас наблюдаем.
Ну и фактор номер три, что еще происходило на рынке и как это влияло на рынок БПИФов - это все-таки укрепление рубля. Я думаю, все понимают, что после 12 июня прошлого года, когда были введены санкции на Мосбиржу, ситуация поменялась. Раньше был такой тиккер в приложении или на бирже - доллар. Можно было купить, вывести, чтобы куда-то его инвестировать, куда-то его потратить. А потом его не стало. Ну все, отрезали, вот доллара больше не стало. Долларовых депозитов тоже в принципе особо уже на рынке и нет, потому что банкам особо некуда их размещать. И инвестор, когда видит, что рубль укрепляется, он действует скорее здесь контртрендово, то есть он начинает его покупать, начинает покупать доллар против рубля. И вот наш БПИФ на замещенные облигации, то есть на валютные инструменты, вот он в этом году естественным образом, без какого-либо даже сильного промоушена вырос в четыре раза, просто на том, что люди искали альтернативу вот этому тиккеру, вот этому инструменту валютному. Да, несмотря на то, что фонд, отрицательная доходность в этом году. Ну, опять же, укрепление рубля, валютные инструменты, естественно, они будут в рублях в минусе. Но это не останавливало инвесторов от того, чтобы заносить и довносить деньги в этот инструмент.
Вот, наверное, эти три тренда - монетарная политика, высокая волатильность рынка акций, ну и укрепление рубля - это то, что определяло наши первые полгода с точки зрения рынка БПИФов.
Владимир Брагин: Евгений, у меня вопрос, опять же, такой немножко больше про инвесторов. Да, у нас есть эти колебания рынка и есть определенное изменение настроения инвесторов. Вот вы по притокам/оттокам, интересу к фондам видите некое просто зеркало того, как наблюдается тот же самый интерес, например, скажем, на отдельные акции и облигации, или это все-таки немножко разные вещи?
Евгений Митюков: Нет, это все-таки разные вещи, потому что инвесторы разные. В акции, мы видим историю, что инвесторы любят покупать российские акции отдельно именно, ну в целом мы видим, что они не покупают фонд, они покупают отдельные акции, когда рынок корректируется. Вот у нас позиция инвестора «buy the dip» («упала - надо купить»), выросла - он, скорее всего, будет продавать. Вот он в этой волатильности пытается заработать вот так. Но это инвестор, который в принципе понимает, что он хочет от жизни, от фондового рынка, от рынка акций. А притоки какие-то постоянные системные на рынок в ПИФы акций, что у нас особо их практически нет, что у коллег их особо нет, несмотря на даже результат.
Владимир Брагин: То есть я правильно понимаю, что по сути дела… То есть приток в ПИФы акций опять у нас будет, когда рынок вырастет?
Евгений Митюков: Ну, конечно, так всегда бывает: сначала он должен вырасти, потом люди будут его покупать. По-другому у нас пока не бывает. То есть идея о том, что высокая волатильность транслируется в высокую будущую доходность, она пока нашему инвестору относительно чужда.
Владимир Брагин: Спасибо, Евгений. Ну вот, к сожалению, да, реальность такова.
Дальше хотел дать слово Владимиру Сердюкову (УК ПСБ). Вопрос про то, как вы боролись за клиентов в это полугодие, что у вас нового?
Владимир Сердюков: Уважаемые коллеги, друзья, добрый день!
Интересные, конечно, были полгода, интересный вопрос, в принципе, немножко рассмотреть и поговорить про клиентов и про рынок, наверное, не столько со стороны продуктов, доходности и т.д., но и про то, что мы делали, про развитие той финансовой грамотности, которую мы как раз использовали, те методы по работе с клиентами, мне кажется, будет интересно обсудить и рассказать наш наработанный опыт.
В принципе, наша команда сформировалась относительно недавно, это примерно около 4-5 лет назад. И мы, как, наверное, любая классическая команда управляющей компании, начали с чего? Мы сформировали модель продаж, мы сформировали сервисную модель, мы сформировали продуктовую линейку, поставили инвестпроцесс и следующим этапом сформировали обычную классическую школу по финансовой грамотности, где простым языком любой клиент, любой потенциальный инвестор может получить определенные азы финансовой грамотности и т.д. Это все было очень просто, мы это сделали.
Но рынок меняется, рынок идет дальше, инвестор меняется. И в какой-то момент в процессе взаимодействия с клиентами, особенно в периоды, наверное, 2020, 2022, 2024 год, в том числе, мы начали сталкиваться немножко с другой ситуацией: что нужно уделять внимание не только терминологии, не только объяснению про доходность, не только объяснению азов и нюансов фондового рынка, но и поговорить и посмотреть на немножко другой аспект - на психологию поведения и на то, как человек принимает те или иные решения в разных фазах рынка либо что-то происходит еще вовне, макроэкономические какие-то факторы либо санкционное давление, какие-то факторы еще дополнительные.
В этот вопрос мы углубились, мы провели и проводим у нас такие глубокие относительно исследования уже в течение несколько лет, и очень интересно посмотреть тенденцию, как она формируется, как меняется клиент, как меняется его поведение, как меняются его предпочтения в течение определенных нескольких лет.
Вот, например, мы уже сформировали индекс финансовых достижений, это в виде анкетирования проводится по регионам России среди розничных инвесторов. И интересно даже за последние два года как изменилось отношение инвесторов и изменилось само поведение инвесторов в первую очередь.
Что такое розничный инвестор в 2025 году? Вот первое полугодие - с чем мы столкнулись? Он стал за последние два года, и это проявилось особенно ярко в этом году, более взвешенный, он научился более взвешенно принимать решения. Но фактор страха не ушел никуда, особенно в части долгосрочных инвестиций, страх не ушел никуда.
Вторая история. Немножко расскажу, здесь один нюанс возникает, такая коллизия возникла. С одной стороны, он становится у нас взвешенный, но возникает другой парадокс: с учетом развития технологий у нас сейчас с телефона можно за пять минут купить билеты, поехать куда-нибудь в поездку, заказать еду и т.д. У клиента тоже появляется возможность через приложение купить паевые фонды, инвестиционные продукты очень быстро. И с чем мы столкнулись? С одной стороны, мы видим, что вроде клиент более взвешенно принимает решения, но здесь, когда через онлайн-канал очень большой процент людей, которые принимают решения, покупая продукт, не понимая, зачем он им нужен, не понимая, не ставя перед собой цели. И доля таких клиентов, к сожалению, очень большая. То есть здесь мы столкнулись с такой коллизией, что скорость внедрения и использования IT-технологий и т.д., она превышает, наверное, ту осознанность, именно осознанное инвестирование клиента. То есть клиенты берут, пока не понимая, зачем им это нужно.
Для нас это вызов, и вызов не только для нас, но и для всей индустрии. Потому что нам необходимо, с одной стороны, восстановить этот баланс, чтобы скорость соответствовала осознанности, но и с другой стороны, мы должны, конечно же, проработать путь перехода, вот то, что я сказал про осознанное инвестирование.
Наш клиент на текущий момент больше уже подходит под европейский тип модели, когда принимаются более взвешенные решения, мы не принимаем панические какие-то решения, с одной стороны, это то, что мы видим из исследования. Причем мы исследование проводили не среди своих клиентов, мы проводили глобально среди розничных клиентов по всей стране. Там очень интересное распределение по регионам, оно, конечно, там очень варьируется сильно, но в среднем примерно динамика в таком ключе идет. Наша задача - как раз таки вернуть баланс в эту сферу и помочь человеку не просто купить продукт, а понять, для чего он это делает, для чего он инвестирует в тот или иной продукт.
Как этого можно добиться? Ну, здесь все очевидно: самый простой путь - это, конечно, через обучение, через повышение финансовой грамотности. Логично, очевидно, мы это обсуждаем уже несколько лет, мне кажется, на всех конференциях и т.д. это звучит. Но в текущих реалиях мы пришли вот к чему, повторюсь: что по поводу финансовой грамотности это уже не вопрос просто терминологии, это не вопрос рассказать, что за продукт, как он работает и т.д., это вопрос уже работы с клиентом в части формирования его доверия и с его поведением.
К чему я веду? К тому, что на первый план уже выходит вопрос того, что, например, инвестор инвестировал, мы понимаем, что он заходит на долгий срок, падает у него фонд, СЧА слетает на 5-6%, на больше - 8-9%. Первоначально, что начинает клиент? Клиент начинает паниковать. Вот первое, чему нужно научить клиента, попробовать работать с ним, чтобы не возникала паника, и с этой паникой работать. То есть он должен понимать, для чего он зашел и на какой срок. Временные просадки, они возможны, но инвестиции - это опять же больше про долгосрок. То есть необходимо выработать у клиентов, у инвесторов иммунитет к паническим решениям - это первое.
Второе - сформировать все-таки понимание и умение долгосрочных инвестиций и каким образом их достигать, то есть какими ресурсами, какими продуктами этого можно достичь.
Чуть позже мы обсудим про долгосрочные инвестиции. У нас, в принципе, довольно-таки большой спектр на рынке продуктов и инвестиционных решений, которые позволяют это сделать, но люди пока не верят, то есть люди пока в это не идут.
И теперь, переходя к практике больше. То, что мы сделали в части финансовой грамотности у себя, у управляющей компании по работе с клиентами - мы пошли по пути обучения через поведение.
Первое - это больше такая теоретическая история, когда мы встречаемся с клиентами и начинаем на примере каких-то живых кейсов рассказывать о том, каким образом не нужно было паниковать в этой ситуации, какие нужно было бы оптимальные решения принимать в такой-то ситуации, и на что клиенту обращать, на какие триггеры, и куда обращаться.
Второй момент. Мы внедрили у себя, но, правда, еще не автоматизировали, это длительная история, - это работа как раз таки с клиентом во время всяких триггерных историй, которые происходят на рынке. То есть если у нас происходит какая-то волатильность, у нас идет коррекция на рынке, какое-то падение, какие-то слухи пошли в Телеграм-канале и т.д., мы начинаем делать первый шаг к клиенту. Мы не ждем, пока клиент к нам обратится, мы идем точечно по клиентам, рассказываем и показываем то, что происходит, применительно конкретно к его портфелю. Чтобы не было паники, не было досрочных выводов, когда идет с убытками т.д., мы рассказываем, каким образом эта история работает, что мы дальше видим и каким образом мы можем сбалансировать эту историю.
И третий большой подход, который мы начали в этом году. Все-таки помимо того, что процесс инвестирования вроде всем понятен, но у нас пока культурно он не заложен, у нас нет в культурном коде пока процесса инвестирования, особенно если говорить про долгосрочные инвестиции. И здесь мы на базе своей школы инвестора сделали новое направление по развитию финансовой грамотности уже для детей. То есть мы здесь уже не говорим про клиентов, мы говорим про детей. Это не для выполнения наших KPI, потому что понятно, что дети не станут нашими клиентами в моменте, это больше про такое социальное направление, про развитие и понимание инвестиций, чтобы инвестиции вошли, ну фактически геном стали с самого детства, чтобы было понятно для чего эта история нужна.
И вот таким образом, через обучение, через взаимодействие с клиентом, через его поддержку мы как раз таки и пытаемся решить проблему и, наверное, развить эту историю, пытаемся создать главное - создать доверие клиента к инвестициям как долгосрочным, так, возможно, и более краткосрочным инвестициям. Но фактор доверия, к сожалению, у нас на текущий момент к инвестициям отсутствует.
Поэтому когда мы говорим про долгосрочные инвестиции в 10-15 лет, к сожалению… Да, продукты есть, структура есть, но клиенты не верят, клиенты не идут. Клиенты много на чем уже обожглись, разный опыт есть, не совсем понимание есть. И очень часто, с чем мы сталкиваемся, когда клиент говорит в открытую: «Понятно, вы мне хотите продать, у вас есть KPI, вы его хотите выполнить…». Поэтому здесь, наверное, если перейти больше в долгосрочные инвестиции, то что важно, мне кажется на текущий момент, это уйти, наверное, от понимания принадлежности того или иного продукта той или иной управляющей компании, той или иной финансовой группе, а пойти от такой социальной миссии, рекламы, маркетингового продвижения именно продуктов со стороны, конечно, в первую очередь регулятора, СРО, чтобы показать нюансы, плюсы, преимущества, и только после этого показывать финансовую группу. Иначе мы не добьемся этого результата.
Мы в управляющей компании часто говорим, что мы управляем активами. Мы пришли к тому моменту уже развития рынка, когда мы должны говорить уже не «мы управляем активами», а в первую очередь и важнее всего, что «мы начинаем управлять доверием». А доверие строится от простого - как мы продали клиенту продукт, что мы ему об этом рассказали, в какой момент мы его поддержали, кому он может позволить, с кем найти контакт и т.д. То есть вот это постоянное взаимодействие должно постоянно строиться.
Недавно буквально у меня была встреча с одним из наших клиентов, и такая фраза прозвучала в конце встречи, она была отрадной и приятной, конечно, он сказал: «Я, возможно, не могу отличить, я не знаю, что такое «дюрация» в деталях и, может быть, не могу отличить акцию одного эмитента от другого, не особо разбираюсь в налогах и т.д. Но я прекрасно понимаю, если у меня падает фонд или что-то происходит, я не паникую. А если у меня возникает паника, я знаю, кому позвонить, с кем поговорить и кто меня утешит». Это не психолог, это тот клиентский менеджер, который с ним работает.
Спасибо.
Владимир Брагин: Коллеги, если есть кому что-то добавить, включайтесь. А я пока вопрос задам, точнее, два вопроса.
Первый. Вы ваше исследование где-то опубликовали, его можно почитать?
Владимир Сердюков: Да, мы публикуем результаты на нашем сайте, ссылку могу дать.
Владимир Брагин: То есть на сайте можно найти у вас, да? Отлично.
И второй вопрос. Может быть, это в исследовании есть, но просто хотелось бы спросить. Если взять клиентов с малым чеком, с большим чеком, то в среднем как примерно отличается поведение и уровень представления о рынке, его финансовая грамотность в каких-то аспектах? Как-то можете этот момент прокомментировать?
Владимир Сердюков: Хороший вопрос. Понятно, что клиент, ну здесь, скорее, логично, что клиент с большим чеком чуть больше погружен, плюс очень часто у клиентов прайвет-сегмента есть финансовые консультанты, которые консультируют, которые ведут их портфели, фэмили-офисы и т.д. Это одно направление. Поэтому, отвечая напрямую, - да, у них возможностей больше.
У розничных инвесторов знаний, конечно, на порядок меньше, существенно на порядок меньше. Но и для розничных инвесторов с меньшим чеком мы, например, ну и большинство на рынке, и конечно, и то, что Банк России сейчас активно продвигает историю о том, чтобы для массовых клиентов были какие-то простые продукты коробочного типа, чтобы не были сложными продукты, продукт должен быть понятным. То есть, да, знаний меньше, но есть и продуктовые предложения для соответствующего типа клиентов.
Владимир Брагин: А вот новое поколение, если брать, инвесторов, ну условно говоря, молодых инвесторов, которые только-только… Вот что у них? Там совсем ноль или все-таки есть надежда?
Владимир Сердюков: Нет, там есть надежда. Конечно, текущий уровень образования, не скажу, что прямо прозападный или не прозападный, но знаю по своему поколению, по поколению позже которое, соответственно, уровень финансовой грамотности повышается за счет, конечно, образования в университете, за счет получения дополнительной информации из интернета, источников и т.д. Наши родители, поколение моих родителей, например, они очень сильно обожглись, например, в 90-е. Да, уровень финансовой грамотности на текущий момент, да, они понимают, что это за продукты, я им могу подсказать в деталях и т.д., но, к сожалению, эти все «пирамиды» - они на этом в свое время обожглись. И для того чтобы их переубедить, например, сейчас инвестировать на 15-20 лет или еще что-то, это практически нереально. То есть они верят в цикл 2-3 года, депозит, спокойнее и т.д. А лучше, где кто-то из детей работает. Ну, у меня просто семья большая, поэтому…
Владимир Брагин: Понятно. Спасибо, Владимир.
Я немножко нарушу порядок, о котором мы договаривались. Я думаю, здесь, наверное, Маргарите будет правильно продолжить тему, потому что, действительно, УК «Доход», наверное, она наиболее активная в таком очень сложном сегменте, как целевые фонды, фонды долгосрочные.
Расскажите, как у вас получается, и в чем проблемы? Может быть, есть и достижения? Потому что действительно тема очень сложная, насколько я знаю.
Маргарита Бородатова: Коллеги, добрый день!
Мне кажется, что спикеры первой панели так много поставили вопросов по рынок коллективных инвестиций, что нам гораздо легче на этой панели сегодня рассказывать.
Что касается нашей компании, мы на самом деле работаем с инструментами долгосрочных инвестиций. У нас есть линейка и ОПИФов, и БПИФов.
По ОПИФам мы достаточно давно занимаемся детским инвестированием. Мой коллега сказал о том, что они занимаются просвещением детей, а мы на самом деле давно сделали продукты для детей, и в эти продукты вкладывают родители. На самом деле линейка ОПИФов, которую мы сделали, по срокам самый большой срок - 2045 год. Я вам могу сказать, что вкладываются, как ни странно. Линейка наша состоит из четырех фондов и называется «Доходъ. Будущее», там 2030 год, 2035, 2040 и 2045 год.
Из чего мы исходили? Мы посмотрели западную практику и посмотрели, что у нас сегодня происходит на рынке. У меня три внука, когда у них день рождения, они завалены этими подарками, эти подарки рассматриваются ну в течение месяца. А на Западе принято дарить деньги. И когда ребенок рождается, когда идет в школу, когда у него какие-то события, то родственники, друзья дарят деньги. И мы исходили тоже из позиции, что нужно нашего инвестора приучать к тому, что нужно ребенку создавать свой капитал. Почему? Потому что те фонды, которые приобретают на имя ребенка, они отделены от наследственной массы, они отделены от возможных бракоразводных процессов, то есть это уже собственность ребенка. Плюс ко всему там какие-то льготы, которые у нас есть на рынке, при долгосрочном инвестировании он получает эти льготы.
И когда мы рассматривали создание такой линейки, мы сначала думали: нет, ну надо делать шаг - один год. Потом мы подумали, что 18 фондов - ну, наверное, дороговато. Решили, что, наверное, нужно сделать шаг в три года. Ну и все-таки остановились на пятилетнем шаге, потому что, вот коллеги правильно говорят, рынок еще не очень готов к таким долгосрочным инвестициям.
Но тем не менее я сегодня могу сказать, что когда начинаешь с инвесторами разговаривать, то первое, вот старшее поколение, которое столкнулось с перестроечными временами, они сразу приводят пример «Росгосстраха», когда страховали ребенка к его 18-летию, к свадьбе, и в результате, я помню по собственному опыту: моя мама застраховала сына и каждый месяц платила 17,5 руб. Чтобы вы понимали, 17,5 руб. при тех зарплатах, когда колбаса стоила 2,20 руб., это очень существенные деньги. В результате ребенок был застрахован на тысячу, ну и когда он получил тысячу в 90-х годах, то были совершенно копеечные деньги. И вот когда начинаешь со старшим поколением разговаривать об этом, они сразу вспоминают эту историю. И здесь я, наверное, коллегу поддержу: старшее поколение, они очень аккуратно к этому относятся, с одной стороны. С другой стороны, старшее поколение уже имеет какой-то капитал, и, например, бабушки, дедушки, они готовы вкладываться в детские портфели, и мы это наблюдаем.
Что интересно? Что стратегия вот этих фондов, она, конечно, плавающая, потому что первые 2/3 периода - это стратегия формирования капитала, а 1/3 - это уже сохранение капитала, и, соответственно, процентное соотношений акций и облигаций, оно меняется. То есть максимально большой процент акций в 2/3 периода этих фондов и потом потихонечку ребалансировка и переход в более консервативные инструменты.
Что я могу сказать? Первая панель очень много интересного рассказала, но мне кажется, что мы с вами находимся на сломе технологий. И сегодня, к сожалению, технологии опережают реальности. Вот Кириллов говорил о том, что да, нужно, чтобы фонды могли продавать в тот же день. И я вам могу сказать, что, обсуждая сегодняшнюю конференцию, мы пришли к выводу, что для Центрального банка мы могли бы сделать предложение о том, что ОПИФы, для того чтобы они перешли в кликабельность одного дня и продажу паев в онлайне, необходимо, чтобы они взяли практику БПИФов расчетов iNAV. Когда будет iNAV рассчитываться у ОПИФов, тогда мы получим с вами покупку паев в этот же день. И мне кажется, если Центральный банк рассмотрит такую ситуацию… Это, конечно, сложно, но тем не менее.
Почему я говорю о сломе технологий? Потому что я думаю, что в ближайшие три года мы увидим с вами развитие платформ с искусственным интеллектом, когда у нас с вами будет уже не Google, Яндекс, а когда у нас будут платформы, и мы можем легко там купить билеты в театр, заказать билеты на самолет, и все это сделает помощник ИИ. Я думаю, что фондовый рынок никак не изолируется и не избежит этой ситуации, и наш инвестор, а его можно разделить по возрасту, инвестор, который привык звонить по телефону и узнавать, как ситуация, и вот молодежь, которая сегодня решает все вопросы, не отходя от компьютера, конечно, они будут пользоваться этими помощниками. Конечно, информирование должно все идти уже через помощников ИИ. Ну это так, немножко я в сторону отошла.
Вторая линейка - это линейка БПИФов. Мне тоже очень понравилось, что прозвучало на первой панели о том, что содержание БПИФов это очень дорого удовольствие. И те вознаграждения, которые компании получают, они пускают в основном на развитие. И меня не удивила цифра в 25% управляющих компаний, которые сегодня в минусе. Потому что если у тебя небольшой объем в управлении, ты не имеешь достаточно ресурса для того, чтобы покрывать затраты и развиваться, потому что, как ни странно, зарплаты все-таки растут, дефицит кадров есть. У нас очень интеллектуальный рынок, и мы от этого не уйдем, эта затратная часть будет только повышаться. Все, что мы можем сделать, максимально перейти к развитию технологий и автоматизации нашей индустрии.
О чем еще хочу сказать? Про БПИФы. Мы создали такой, скажем так, продукт, который состоит из трех фондов, и это, наверное, всепогодный такой облигационный фонд с целевой датой. Наверное, самое главное я забыла сказать, что фонды для детского инвестирования - это тоже фонды с целевой датой. То есть на определенную дату на 2030, 2035, 2040 и 2045 год - это фонды с целевой датой.
Почему я говорю, что всепогодный вот этот продукт, состоящий из трех фондов? Потому что структура фондов, она сформирована следующим образом: каждый фонд, он рассчитан на трехлетние облигации. Первый фонд - это погашение декабрь 2025 года, 2028-го и 2031-го. То есть приходит дата 21-го, и мы сразу покупаем облигации на более долгий срок. Соответственно, второй фонд сдвигается на год - это 2026, 2029, 2032-й. И третий фонд - это 2027 год, 2030-й и 2033-й. Ну и вы понимаете, что первый фонд, второй и третий, пройдя целевые даты, он переходит на новые целевые даты. И инвестор, если он хочет работать на рынке облигаций, он, по сути дела, получает уникальный сервис, аналог такого всепогодного депозита.
Да, есть некоторые, наверное, недостатки у этих фондов. Потому что когда происходит там смена ставки, то это тоже может повлиять: если ставка увеличивается, соответственно, длинные облигации проигрывают, но за счет того, что создан баланс в этих инструментах, в каждом фонде есть и короткие, и средние, и длинные облигации. Поэтому вот эта психологическая нервозность инвестора от изменения ставки, она будет нивелироваться.
Есть немножко времени? Я еще про исследование расскажу.
Владимир Брагин: Давайте, если очень коротко.
Маргарита Бородатова: Коротко. В 2024 году мы познакомились с исследованием Шварц центра фор финанс ресерч(?-41.43). Это исследование проводилось на периоде 30 лет, и исследование ставило себе цель определить, насколько меняется доходность в зависимости от точки входа. Было пять моделей и очень простые правила: инвестор инвестирует тысячу долларов ежегодно на протяжении 30 лет. И пять моделей.
Первая модель - инвестор вкладывался в течение года по минимальным ценам рынка. Вторая модель была, когда инвестор вкладывался в первый торговый день года. Третья модель была, когда он разбивал на 12 месяцев и каждый месяц покупал бумаги в первый торговый день месяца. Четвертая модель была - по максимальным ценам рынка за год. А пятая модель - инвестор никак не мог решиться, когда же войти, и он все время держал деньги на депозите.
Мы повторили это исследование на нашем рынке, на наших цифрах, используя наш индекс дивидендных акций, только на двадцатилетнем периоде. Мы взяли период 2004 год - 2023 год. И что мы получили?
Мы взяли 100 тысяч, ну мы так решили, что тысяча долларов - это примерно 100 тысяч рублей, и ежегодно наш инвестор инвестировал 100 тысяч рублей. Модели были те же самые - минимальные цены, первый торговый день, разбивка на месяцы, максимальные цены и депозиты.
Первый инвестор за 20 лет получил среднегодовую доходность 19,9%, и у него на счете образовался 21 миллион.
Второй инвестор (вторая модель) - у него доходность была 18,1% (17 миллионов).
Третья модель - 17,4% (15 миллионов).
Четвертая модель, когда по минимальным ценам - 11,6%, это среднегодовая доходность (11 миллионов).
И инвестор, который не решился вложиться в рынок акций, а вкладывался только в депозиты, у него на счете 5 миллионов и доходность - 8,3%.
Прошу вас учесть, что это мы включили декабрь 2023 года, то есть это уже период 2022-2023 год, все падения.
Это говорит о чем? О том, что долгосрочные инвестиции, они очень интересны на самом деле. Просто, наверное, наш инвестор еще не совсем это до конца понимает и не совсем доверяет рынку. И, наверное, наша с вами задача все-таки вот как-то работать в этом направлении, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно и доверительно в отношениях с нами.
Но пожелание к Центральному банку у меня все-таки, чтобы мы смотрели на технологическое развитие. Потому что нельзя допустить вот этот разрыв.
Наверное, все у меня.
Владимир Брагин: Я все-таки по традиции, сложившейся сегодня, задам вопрос по поводу как раз таких долгосрочных портфелей. Классический подход, он действительно такой, что в начале срока мы почти все инвестируем в акции, потом постепенно доля акций у нас снижается.
Мы тоже внутри делали подходы к этому снаряду, думали, может быть, тоже подобного рода продукты запускать. Но возник первый вопрос следующий: хорошо, вот мы сейчас соберем какое-то количество долгосрочных инвесторов, ну в кавычках, которые консервативные, которые хотят… Мы закупим акции, и рынок акций начнет, как обычно, двигаться туда-сюда. Не пугает ли это инвесторов в начале пути? Вот такой вопрос. Потому что путь длинный, но в самом начале он самый страшный. Не думали ли вы какой-то вопрос, может быть, с постепенным входом в рынок через акции или как-то так, то есть подумать неклассическим способом?
Маргарита Бородатова: Знаете, мы достаточно плотно работаем с соцсетями. У нас на самом деле объем подписчиков соцсетей во всех примерно 150 тысяч, в одном телеграм-канале у нас 74500, и мы стараемся этот телеграм-канал сделать очень таким целевым, и все возможные нюансы рынка мы обсуждаем именно, мы стараемся объяснить поведение инвесторов, объяснить, с какими процессами он может столкнуться. То есть вся та практика международная и российская, которую мы имеем на сегодняшний день, мы стараемся простым языком ее изложить. Но я знаю, что много подписчиков среди нашего рынка. Хотелось бы, конечно, чтобы это инвесторские были подписки, но вот как-то так.
Владимир Брагин: Спасибо, Маргарита.
Тогда мы переходим немножко к другой теме, посмотрим с другой стороны последние полгода. У нас такой вопрос, пусть не(?)часто поднимающийся, - ликвидность.
Я хотел попросить Дмитрия Целищева из «Риком-Траст», рассказать, как они совмещают несовместимые ЗПИФы и брокера.
Дмитрий Целищев: Добрый день, коллеги!
Это очень на самом деле ответственно и приятно от лица профсообщества брокеров выступать на этой панели.
У нас на самом деле тоже в прошлом году было очень много перемен, в том числе мы уходили от эйфории большого бизнеса с евробондами и с депозитарными расписками, возвращая все-таки фокус больше на локальный рынок, и, засучив рукава, собственно говоря, помогая клиентам совместными усилиями находить интересные какие-то инвестиционные решения и доходности на российском локальном рынке. Ну, мы сегодня не про брокерский бизнес, а про рынок коллективных инвестиций и управляющих компаний.
С конца прошлого года мы наблюдаем определенный спрос со стороны рыночных именно управляющих компаний на дистрибуцию паев закрытых фондов среди клиентов брокера. Почему это происходит? Ну, кажется очевидным, что сам ЗПИФ как инструмент коллективных инвестиций приобретает большую популярность, в том числе через вывод паев на биржу.
С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у каналов продаж управляющих компаний и классических партнеров банков тоже есть емкость. А если мы, как сегодня уже звучало, говорим про некие финансовые группы, то достаточно сложно в эту финансовую группу пробиться на полку какой-то сторонней управляющей компании рыночной, скажем так. Ну и тут, собственно говоря, в фокусе появляется ключевой партнер брокер, который помимо стандартных услуг андеррайтинга, уполномоченного инфраструктуры для первички паев, может выступать и полноценным партнером по вторичке так называемой. Причем сразу скажу, что мы говорим про фонды так называемых альтернативных инвестиций, чтобы точно избежать на полке канибализации классических брокерских продуктов…
Владимир Брагин: А можно, что именно альтернативное?
Дмитрий Целищев: Это разное. Это кирпич, ну в смысле, недвижимость, это драгметаллы, это крипта, которая сейчас набирает популярность, несмотря, что мы еще так на нее смотрим издалека, но тем не менее кажется, что это вот как раз будущее, в том числе с точки зрения предмета инвестиций.
Ну и, собственно говоря, почему брокер? Во-первых, у нас совпадает зачастую целевая аудитория. То есть клиенты брокера, они имеют уже привычку работать с достаточно большой палитрой финансовых инструментов, это, по сути, уже в ДНК у клиентов. И нам как хорошему партнеру и дорогому адвокату со стороны клиента в принципе ничто не мешает предлагать партнерские продукты.
Второй аспект - это то, что у брокерских компаний, как и у управляющих, и у банков, есть свои сейлз-форсы, есть свои команды офлайн-продаж, которые при должной мотивации и при интересной маржинальности продукта также готовы дистрибутировать и закрытые паевые инвестиционные фонды.
Но здесь, наверное, ключевое - это даже не офлайн, а скорее онлайн-продажи, потому что практически каждый брокер сейчас активно движется в сторону развития диджитал-каналов продаж. Мы говорим как про торговые терминалы, так и про «личный кабинет». Ну и, по сути, у управляющей компании есть возможность встроиться просто в десятки, а то и в сотни отдельных маркетплейсов со своим продуктом.
И третье, опять же, начиная с твоего вопроса относительно ликвидности, если думать стратегически, что, собственно говоря, мешает брокеру взять паи фонда на собственную позицию или достаточно оперативно найти покупателя среди своих клиентов, ну это, собственно говоря, и есть ликвидность, которую в том числе ищут клиенты, ну и пока, к сожалению, по большинству продуктов не могу найти.
Но это уже другая история. В общем, у меня такой короткий спич про ЗПИФы, управляющих и брокеров.
Владимир Брагин: Спасибо. На самом деле мы в эту сторону тоже наши коллеги, не мое подразделение, но вот те, кто занимаются именно ЗПИФами, тоже активно смотрят именно на вопрос каналов продаж. Потому что, действительно, альтернативные инвестиции должны быть в портфелях клиентов. И вопрос, собственно говоря, донесения и предоставления возможности удобной покупки - это тоже важно. Точнее, не то, что «тоже», а это очень важно.
И второй вопрос - по поводу вторичной ликвидности. Ну, как я понимаю, это пока вопрос будущего, да? То есть пока там… Или все-таки уже есть?
Дмитрий Целищев: Там есть тестовая история. Сейчас пройдем и потом сможем масштабировать.
Владимир Брагин: Хорошо. У меня вопрос немножко другой тогда. Если, допустим, ЗПИФ, который брокер может предлагать клиентам. Есть ли какие-то специфические там моменты, на которые вы обращаете внимание? Не знаю, ЗПИФ должен быть для квалов или это неквальный обязательно продукт? Какие классы активов, сроки опять же действия ЗПИФа?
Дмитрий Целищев: Да, ну сроки, наверное, мы все-таки стараемся совместно с партнерами обыгрывать как раз через вот эту ликвидность, которую мы обсуждаем относительно возможности достаточно быстро продать паи либо другому клиенту, либо управляющей компании. Что касается, как я уже сказал, самой начинки фонда - да, это все-таки альтернативные инвестиции, и зачастую они доступны в большинстве своем для квалифицированных инвесторов.
Если говорить про пороги входа, можно оперировать цифрами - средняя инвестиция у брокера составляет 46 тыс. рублей. Исходя из практики, в принципе, спрос там одинаковый, есть как на продукты от 100 тыс. рублей, так и от миллиона, то есть здесь в зависимости от того, что находится внутри продукта и как он позиционируется. То есть это средний маркет, это может быть вообще какая-то клубная история. То есть case by case, как говорится. Но спрос есть на них однозначно.
Владимир Брагин: Спасибо, Дмитрий.
У нас остался на первый вопрос единственный спикер, представитель Центрального банка.
Валерий, расскажите, что вы думаете про наши, скажем так, идеи? Куда двигается Центральный банк, куда двигался эти полгода, и как вообще в целом?
Валерий Красинский: Всем добрый день!
Рад уже традиционно принять участие в конференции. Спасибо, НАУФОР за приглашение.
Отдельно хочу выразить большую радость, что наша панель, мне кажется, показывает, что рынок живет все-таки не только ожиданием новых налоговых льгот от Минфина и после этого будет счастливое будущее, а все-таки очень интересные инициативы без иронии какой-либо - и про …, о чем Маргарита рассказывала, и то, что коллеги исследовали поведенческие какие-то, брокер с ЗПИФами. Я думаю, что это показывает, что рынок у нас креативный, подстраивается под интересы клиента и развивается.
Про регулирование, опять же, традиционно постараюсь рассказать, что у нас там происходило и в прошлом году, и в этом, и какие планы на следующий год.
Вот мы с нашими коллегами внутри банка заметили, что у нас по рынку коллективных инвестиций такая в регулировании немножко цикличность образовалась: мы где-то раз в пять лет приходим к тому, что нам надо вот какую-то такую ревизию более-менее комплексную сделать на уровне федерального законодательства в первую очередь. То есть не какие-то точечные улучшайзинги, которые мы стараемся каждый год делать, а именно комплексные. Вот у нас последние такие комплексные изменения были в 2019-2020 году, многие, наверное, помнят, когда мы выделы разные вводили и типовые правила меняли на требования, и доходы разрешили платить в рознице. А сейчас у нас вот этот новый цикл.
Соответственно, в 2024 году у нас был посвящен принятию законопроекта по развитию ЗПИФов, в первую очередь для квалинвесторов, в декабре он был принят. Не буду подробно останавливаться, отдельная панель будет следующая про ЗПИФы. Но там есть и несколько инициатив, которые все фонды затрагивают. Там, наверное, эта история с уведомлениями спецдепозитариев. Там, казалось бы, такой немножко операционно-технический момент, но на самом деле мы там и расчеты делали, то есть это и на Банк России, и на спецдепозитарии, и, думаю, на управляющие компании довольно существенно снимает административную нагрузку, когда вместо того, чтобы заниматься каким-то разбором мелких, несущественных нарушений, можно подумать о том, какие новые фонды предложить инвесторам.
Также каскады, уже упоминавшиеся на первой панели, которые будут действовать не только для ЗПИФов, но и при выплате дохода для розничных фондов.
Закон принят, но он вступает в силу в марте 2026 года. Соответственно, под него надо сделать целую кучу нормативных актов, мы уже первую половину года этим активно занимались, у нас уже принят акт про спецдепозитарии, про который я уже упоминал (список нарушений, о которых можно не уведомлять Банк России). Мы приняли новую форму отчета о прекращении фондов, и она также единая, не только для ЗПИФов, она для всех фондов. Постарались ее актуализировать, что-то избыточное убрать, что-то полезное добавить. Новые требования к порядку проведения общих собраний в закрытых фондах. Это из того, что уже принято. Соответственно, мы приняли, часть Минюстом зарегистрирована, часть еще нет, но ожидаем в ближайшее время.
В работе у нас сейчас изменения вот такие точечные в требовании к правилам всех типов - и отрытые, и биржевые, интервальные, закрытые, для квалинвесторов и не для квалинвесторов. Там нужно как реализовать вот те новации, которые законопроектом предусмотрены, те же самые каскадные выплаты, чтобы это все заработало. Но вот на первой панели упоминались «Финуслуги», мы, провзаимодействуя с Биржей, с управляющими компаниями, вносим тоже некоторые новации в этой части, то есть можно будет как раз расчеты проводить при погашении паев через оператора финансовой платформы, в том числе через «Финуслуги». С этим были определенные сложности, такая бесшовность, она немножко нарушалась, когда приобретался фонд на «Финуслугах», там погашение как-то более сложным путем шло. Соответственно, надеемся, что вот эти поправки, они эту проблему решат.
Также у нас впереди мы будем переиздавать акт о частичном погашении паев, уже его вывесили на публичное обсуждение. Кому это актуально, - обратите внимание.
И у нас будут еще точечные поправки в акт по раскрытию информации.
Также у нас в этом году наконец дошли руки до переиздания Постановления 2004 года № 04-5/ПС, рынок нас об этом давно просил. Свершилось почти. Акт уже первые обсуждения прошел, мы там замечания собрали, их достаточно много, сейчас дорабатываем по этим замечаниям, но надеемся, что это позволит рынку наконец уйти от вот этой бюрократии со всякими непонятными отчетами и т.д. То есть такой акт в 2004 году актуальный, сейчас, конечно, уже нет.
И в части внутреннего контроля достаточно существенно система перерабатывается на базе того опыта регулирования, который у нас уже есть у профучастников, и который мы сейчас будем внедрять в негосударственных пенсионных фондах. То есть в этом смысле этот эффект мегарегулятора, мы достаточно здесь серьезно гармонизировали требования, опять же постаралась что-то избыточное убрать, больше такого регулирования на принципах в этой части. То есть мы ставим некое регулирование результата, но не регулируем особенно как его нужно достигать, соответственно, здесь каждый из участников рынка в зависимости от своих бизнес-процессов будет это внедрять.
Ну и по розничным фондам. Тот самый консдоклад. Тоже несколько слов про него скажу. В отличие от ЗПИФов, здесь мы пошли по пути консультаций, потому что по ЗПИФам у нас все-таки был уже ряд таких инициатив на столе, более-менее понятных, актуальных, там понятно, как их реализовывать, поэтому мы сразу делали законопроект по розничным фондам. Все-таки, на наш взгляд, история более дискуссионная.
И немножко истории вопроса. То есть перед тем, как писать и выпускать доклад, мы провели ряд опросов среди ну не всего рынка, но отдельных ключевых участников, провели ряд встреч, на площадке НАУФОР в том числе, по обсуждению уже более таких отдельных инициатив. И результатом стал этот доклад. На самом деле мы, по моим ощущениям, туда включили все, что могли. То есть это все инициативы рынка, которые ну такие более-менее значимые, которые были на столе, наши какие-то наработки, международный опыт, который есть, посмотрели.
Мне кажется, этот доклад, он достаточно интересный получился. Но при этом, там тоже это отмечено, это действительно так, нам кажется, что у нас достаточно такое даже сейчас неплохое регулирование. Это не в смысле похвалить Банк России, это в смысле наша общая заслуга, потому что это регулирование в непосредственном взаимодействии со всеми вами выстраивалось. Поэтому инициативы получились, ну кроме некоторых, сейчас я про них скажу, ну, не сказать, что прямо какие-то суперреволюционные, а больше про какие-то новые возможности, про какую-то актуализацию с учетом того, что финансовый рынок тоже в целом не стоит на месте, и другие сектора куда-то идут, и нам нужно, естественно, здесь не отставать.
Опять же, из доклада, наверное, видно, что не все инициативы со стороны участников рынка для нас как для регулятора понятные, убедительные. Нет, они понятные, но не всегда они очевидные с точки зрения какого-то кост-бенефита, наверное, причем как для нас, так и для участников рынка. Думаю, что на «круглом столе» мы уже более подробно какие-то конкретные инициативы пообсуждаем.
Я бы выделил три, про них Владимир Кириллов говорил на первой панели. Это история с плечевыми фондами. Ну, это вопрос про риски. То есть идея фонда нам понятна, но при этом нам кажется, что текущее регулирование не отвечает вот тем вызовам, которые появятся, если такие фонды разрешить. Поэтому вот тот самый кост-бенефит готов ли рынок и считает ли он востребованным такое достаточно комплексное реформирование требований, в том числе к финустойчивости управляющих компаний, возможно, введения каких-то нормативов достаточности капитала, чего никогда не было на нашем рынке за все эти 30 лет, сколько он существует. Соответственно, вопрос такой достаточно дискуссионный.
История с фидерными фондами. Опять же, Владимир Кириллов говорил, что он видит в этом большой потенциал. Поэтому вот здесь кажется, что нам нужно общими усилиями в рамках консдоклада, каких-то отдельных обсуждений найти вот эту границу, где у нас заканчиваются такие, скажем так, не до конца понятные с точки зрения ценности для инвестора фонда, когда, ну то, что мы видим в доверительном управлении, когда он в стратегию просто покупает свои ПИФы и с ними особо ничего не происходит. То есть какое там доверительное управление, не до конца понятно, в чем здесь клиентская ценность доверительного управления, тоже не до конца понятно. Но при этом те самые две комиссии радостно взимаются.
И, наверное, границу между тем, чтобы у нас появились такие ПИФы еще, кроме ДУ, и теми фондами, где будет клиентская ценность, когда будет из ПИФов все-таки собираться какой-то портфель, будет какой-то эффект масштаба достигаться, там как раз и будет скорее экономия, лучший финансовый результат для инвесторов по сравнению с какими-то иными фондами. Ну, не самая простая, на мой взгляд, задача, потому что, по крайней мере пока, вот мы ждем это в ответ на доклад, мы таких вот прямо стратегий, каких-то бизнес-идей, уже окончательно оформленных, пока не видели. Но, наверное, увидим в ходе обсуждения.
И третья история - с Т0, уже такая витающая над рыком несколько лет. Но она всегда витала в виде некой идеи, которая вроде бы хорошая, все понятно, там все всё правильно говорят, у брокера я могу моментально что-то сделать, депозит я могу открыть в два клика, а паи я должен ждать 3-4 дня, что не отвечает, наверное, современным реалиям. И с точки зрения вот этой стороны этой идеи, мы ее, безусловно, поддерживаем.
Но при этом мы провели много встреч с участниками рынка, и вот непосредственно перед докладом провели такую ну не то что финальную, но такую комплексную встречу на площадке НАУФОР с УК и спецдепами, постарались разобрать все этапы процесса, они в докладе тоже описаны, эти этапы (этапы - я имею в виду процессы выдачи паев), и поняли, что задача такая, очень нетривиальная, то есть все должны очень существенно переработать свои бизнес-процессы, для того чтобы это все заработало.
И я так аккуратно скажу: нельзя сказать, что по итогам этой встречи у меня сложилось впечатление, что рынок в массе своей к этому готов в моменте. Наверное, будет готов когда-нибудь, и, может быть, сейчас мы приступим к этим историям. Вот Маргарита тоже говорила про iNAV, про регулирование, и вот мое впечатление, что сейчас проблема не столько в регулировании, сколько в бизнес-процессах. Потому что, опять же, действительно отмечалось, ну далеко не все управляющие компании выдают паи в Т+1, далеко не все. Хотя, казалось бы, здесь никаких регуляторных препятствий нет. Вот есть УК, есть спецдеп, регистратор, если это история с открытием лицевого счета нужна. Наладьте какую-то скорость, с банками договоритесь, с брокерами. Но, к сожалению, пока это не работает. И действительно, некоторые управляющие компании, даже достаточно крупные, выдают и в Т+2 и в Т+3 (Т+3 - это максимальный, я напомню, срок).
Кроме того, опять же, в докладе отмечено: у нас уже сейчас можно выдавать в Т0 по концу дня, а этого нет ни у кого. То есть если Т+1 у некоторых компаний есть по некоторым фондам, то Т0 вот такого к концу дня нет ни у кого. А мы уже начали говорить про Т0 в середине дня. Это еще более сложная задача, и каких-то готовых решений, очевидно, нет. И iNAV это тоже…
Во-первых, расчет СЧА - это важная, но далеко не единственная проблема вот в этом бизнес-процессе, которую нужно ускорить. И даже если сейчас разрешить по iNAV, хотя здесь есть свои сложности, и их тоже надо обсуждать, то ничего в Т0 не заработает. То есть тут нужно все процедуры отработать.
Ну, это я скорее не в плане какого-то пессимизма, а скорее к тому, что здесь мы ожидаем вот конкретно по этой инициативе в первую очередь от участников рынка каких-то предложений, какой-то готовности что-то менять у себя, дорабатывать.
Владимир Брагин: А можно предложение по поводу Т0 сразу?
Валерий Красинский: Давайте.
Владимир Брагин: Просто на самом деле, мне кажется, различие между БПИФом и ОПИФом очень простое: у вас есть посредник в случае БПИФа в виде уполномоченного лица и маркетмейкера. Может быть, что-то подобное подумать и в случае ОПИФа, некого буфера, который может обеспечить эту самую ликвидность Т0. Может быть, не на весь объем фонда, но хотя бы на какой-то объем?
Валерий Красинский: Ну, это вторичное обращение. Вам никто сейчас не запрещает нанять маркетмейкера. У нас же БПИФ приобретается на бирже, это вторичный рынок. Здесь как бы вопроса нет, сделайте ОПИФ с маркетмейкером, и, кстати, такие идеи у каких-то компаний…
Владимир Брагин: Но тогда это уже получается БПИФ.
Валерий Красинский: Ну нет, почему?.
Маргарита Бородатова: Это сразу удорожает обслуживание ОПИФов.
Валерий Красинский: Просто регуляторных препятствий к этому нет, я это пытаюсь сказать.
Маргарита Бородатова: Нет, регуляторные есть препятствия. Мы не можем выдать паи по сегодняшнему iNAV.
Валерий Красинский: А тут же вопрос не выдачи. Тут же вопрос - есть ли маркетмейкер.
Ну давайте про iNAV тогда скажу. С iNAV интересная история. У iNAV есть свой уровень аппроксимации, скажем так, неточности, и именно поэтому то, что мы видим у БПИФом, ну это открыто, откройте любые правила, там вот этот апсайд/даунсайд, который бид аск тот самый, он довольно широкий, и он как раз потому, что iNAV в силу упрощенности своего расчета далеко не всегда отражает то, что есть на рынке. И, соответственно, чтобы брокер, который является маркетмейкером, не получал негативный для себя ценовой арбитраж при покупке или продаже строго по iNAV, вот этот гэп, он и есть, и этот гэп 5% или 3.
Маргарита Бородатова: Три процента.
Валерий Красинский: Три, да, допустим. Ну это много. Плюс-минус 3%, коридор - 6.
Маргарита Бородатова: Ну, больше заработок, наверное, все-таки.
Валерий Красинский: Нет, мы общались с маркетмейкерами, они говорят о том, что они в том числе закрывают риски неточности iNAV. Потому что iNAV не предполагает переоценку обязательств, не по всем бумагам всегда есть какая-то актуальная цена в середине дня. Ну, тут много вопросов, то есть это опять же не в контексте какого-то пессимизма, но больше про то, что нельзя просто взять БПИФовский iNAV вместо РСП в ОПИФах вести, и будет опять же счастье. Нет, к сожалению, так это не заработает.
По Т0, опять же, давайте более подробно, наверное, на…
По докладу, просто завершая именно этот кусок, хотел сказать, что призываем всех активно участвовать, потому что как минимум три инициативы, о которых я говорил, если мы не получим какого-то понятного фидбэка, понятных предложений, то будет крайне сложно прийти к решению их реализовывать. Срок их обсуждения - до сентября, напоминаю, то есть время еще есть отреагировать. После этого мы будем намечать по итогам обсуждения доклада изменения в регулирование. Активная фаза, наверное, уже будет в 2026 году, если в закон надо что-то вносить и в нормакты, соответственно, это, наверное, 2026 год.
Про точечную историю хотел просто напомнить. Мы в прошлом году принимали изменения в акт по расчету СЧА, где увеличивали срок расчета СЧА для фондов для квалинвесторов. Но это история отложенная, и она заработает у нас с 1 января 2026 года, когда наши коллеги из департамента инфраструктуры внесут изменения в акт по спецдепам, которые увеличат сроки для спецдепа на контроль. Тоже такая новация, которую рынок очень ждал, насколько я знаю. Просто напоминаю, что с 1 января она у нас должна заработать.
Про крипту тоже хотел сказать два слова. Ольга Юрьевна в целом уже сказала, что мы в этом году в акт по составу в структуре активов ПИФ изменений вносить не будем, у нас и возможности такой ресурсной на это нет. Плюс туда нужно будет в любом случае изменения по итогам Консультативного доклада, поэтому мы хотели это все объединить, и поэтому это, наверное, уходит на следующий год. Но там нам нужно будет вместе с вами отдельно обсудить вопрос про вот этот элемент квалинвестора. Потому что я напомню, что у нас в неквальные ПИФы в определенной доле можно покупать инструменты для квалов. Насколько это должно распространяться на расчетные ПФИ и на крипту - это вопрос, требующий отдельного обсуждения. То есть если с комбинированными, условно, фондами мы в целом готовы на эту историю, и здесь вопрос, что надо внести изменения в нормативный акт, то вот вопрос, готовы ли мы видеть ПФИ на крипту в пределах тех лимитов, которые есть в неквальных фондах, это нам предстоит вместе с вами обсудить.
Спасибо.
Владимир Брагин: Забыли вы добавить, наверное, Валерий, одну вещь. Поучаствуйте(?) в обсуждении Консультативного доклада, иначе потом будет хуже. (Смех)
Валерий Красинский: Ну я примерно это сказал, просто дипломатично напомнил про 1 сентября.
Владимир Брагин: Да, поэтому всех призываем. У меня вопрос по Консультативному докладу всего один, потому что как-то вот тема фонда фондов съехала в фидерные фонды, это немножко не одно и то же. Как-то вопрос фонда фондов там можно увидеть обратно, или все-таки это пока откладывается на потом?
Валерий Красинский: А что вы имеете в виду под фондом фондов? Потому что у нас в принципе можно покупать сейчас паи не своих фондов.
Владимир Брагин: Вот. А хочется своих, как я понимаю, большинству присутствующих.
Валерий Красинский: Это как раз то, о чем я говорил про бизнес-идеи, и вот то, что мы видели в качестве предложений, в том числе от вашей управляющей компании. Это, опять же, дисклеймер, это не пессимизм, но пока мы не увидели какой-то понятной бизнес-стратегии с понятной клиентской ценностью. А начинать, наверное, надо с этого, потому что продается в хорошем смысле же рынком это под соусом, что это вот клиенту новый продукт, для него классный, с новыми перспективами по доходности, экономии на чем-то там, на масштабе. Давайте все вместе это увидим и тогда будет проще дискутировать.
Владимир Брагин: Позиция понятна.
У нас немножко времени осталось, наверное, минут 15. Долгосрочно мы уже не сможем второй вопрос обсудить, который запланировали. Поэтому я предлагаю перейти к третьему.
Краткий блиц-опрос - кто, что ожидает по рынку на ближайшие полгода - приток, отток, переток, какое поведение клиента мы ожидаем в свете снижения ставки?
Я предлагаю начать с Митюкова Евгения. То есть очередность сохраним второго вопроса, но пойдем по блицу.
Евгений Митюков: Владимир, спасибо.
Пока мы видим, как я уже отметил, что поезд поехал в сторону снижения ставки, и вот это используется как некий питч для клиентов. Дальше уже вопрос продуктов, как более маржинальные как бы это продается клиентам более активно, какие-то менее маржинальные, они продаются менее активно. Но суть остается в том, что переток из некого такого консервативного позиционирования в чуть более как бы агрессивный на рынке облигаций, он действительно происходит. Да, туда идет не «тело», «тело» депозитов обычно остается в депозитах, это некое золотое правило нашего инвестора. Но проценты действительно, которые накапали в виде дохода, они так или иначе переходят в более рисковую форму. Сначала это будут облигации, потом это будут, наверное, все-таки уже и акции.
Владимир Брагин: Ну то есть вы за приток? Вы говорите про приток в коллективные инвестиции от депозитов?
Евгений Митюков: От процентов по ним. Депозитов… такого счастья ждать не стоит, что какие-то триллионы перейдут из депозитов на фондовый рынок, ну он захлебнется просто. Нет, там это будут все-таки сотни миллиардов, наверное, на интервале ближайшей пары лет.
Владимир Брагин: Дмитрий, вы хотели рассказать немножко про иностранных инвесторов. Ждете их приток сюда при каких-то условиях, или как? И при каких?
Дмитрий Целищев: Да, конечно, ждем. Я на самом деле с Евгением согласен. То есть определенный переток из депозитной базы, он произойдет. Но опять же, если смотреть на статистические данные, то у нас пока еще массовый инвестор не дозрел до фондового рынка. Может быть, я буду немножко антагонистом, но за три года у нас чуда не случилось, и физические лица не стали той движущей силой, которая бы взяла и полноценно заместила иностранный капитал, который ушел. Ну, это, собственно говоря, понимают и в правительстве.
Если кто не обратил внимания, то в начале июля, по-моему, 1-го числа, президент подписал 436 указ, который, по сути, начинает либерализацию по возврату иностранного капитала на российский рынок, что отрадно. Одинаковые практически сейчас условия по счетам типа «Ин» будут как для инвесторов из дружественных, так и из недружественных стран. И да, мы, в том числе, как брокер делаем ставку на этот возврат и ожидаем там триллионы, скорее, не миллиарды. Потому что, напомню, у нас еще есть задача глобальная с вами удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году, ну и кажется, что просто ресурсами, опять же антагонистически, но ресурсами физических лиц только мы это не сделаем.
Владимир Брагин: Понятно. То есть иранский сценарий не сработал, переходим к плану «Б». Хорошо.
Олег, ваше слово, вы что думаете?
Олег Горанский: Да, Владимир, мы тоже верим в притоки, правда, больше, наверное, верим в притоки из депозитов. Но я также хочу немножко затронуть тему долгосрочных продуктов, потому что история о том, что у нас есть задача по удвоению финансового рынка. Она есть, ее надо как-то решать. Вот мы видим, что ее надо решать несколькими путями. В первую очередь мы сейчас активно прорабатываем и пытаемся оформить в виде какой-то пояснительной записки концепцию появления аналога американских счетов типа 401(к) - это инструмент для квалифицированных инвесторов, которые могут, например, попробовать управлять своей пенсией через НПФ. То есть в НПФах открывать для инвесторов, кто желает получить такую услугу, счета, на которых они могут инвестировать в ОПИФы и БПИФы самостоятельно, без экспертизы самого НПФа. Мы считаем, что эта услуга будет достаточно востребована, особенно среди квалифицированных и состоятельных инвесторов.
Также мы очень настроены, хотя нам намекают о том, что говорить про налоги здесь не очень хорошо, но я все-таки про них скажу. Мы очень хотим продвинуть идею тематических ИИСов, которые можно будет открывать под конкретные цели. То есть это либо образование детей, либо покупка квартиры, машины, какой-то большой покупки, о которой ты будешь заявлять в ФНС, и под эту историю будет открываться индивидуальный инвестиционный счет с определенными льготами. Это позволит решить целый ряд проблем. В частности, это позволит инвесторам потрогать долгосрочные продукты и получить хотя бы первые или развить существующие знания о долгосрочных продуктах, ну и сделать накопления, а также приток длинных денег на финансовый рынок сделать более вероятным.
Также мы активно выступаем за то, чтобы семейные ИИС-ОПИФ появились, то есть то, о чем мы уже сегодня говорили, о том, что родители могли бы открывать на детей продукты, которые смогли бы раскрыться только при достижении ими 18-летнего возраста и быть потрачены на образование, покупку жилья или какие-то еще необходимые нужды при взрослении ребенка.
Владимир Брагин: То есть имеется в виду материнский капитал на фондовый рынок?
Олег Горанский: Материнский капитал, мне кажется, можно зачислять на ИИС, если того хочет семья. Мне кажется, это был бы правильный жест.
Владимир Брагин: Спасибо.
У нас теперь Владимир. Расскажите, может быть, немножечко еще и про ДСЖ, мы так и не успели этого вообще коснуться.
Владимир Сердюков: Коллеги основное про притоки сказали уже.
Но вот если продолжить тему, то что начал Олег, про то, что мы хотим больше видов ИИСов, больше видов налоговых стимулов и т.д., мы очень детально обсуждали на Конгрессе Банка России в июле этот вопрос. И вы знаете, мы там смотрели исследование, если не ошибаюсь, по-моему, американское исследование было, что различные налоговые стимулы и дополнительные продукты дают примерно 90% веса для того, чтобы долгосрочные инвестиции развивались. А 10% - это финансовая грамотность.
У нас же, как показывают данные, скорее обстановка обратная. То есть сейчас сколько бы ни предлагай новых ИИСов, новых налоговых стимулов и т.д., к сожалению, они не работают в том размере, как работают, например, в более развитых экономиках. Сорри, за такое слово, но тем не менее. У нас 90% занимает как раз таки формирование уровня доверия клиентов к долгосрочным инвестициям. Продукты есть, инфраструктура есть, можно менять нюансы, добавлять и т.д., но пока не сформируется доверие, к сожалению, говорить о том, что существенный приток долгосрочных сбережений, я считаю, что в ближайшее время не стоит ожидать существенный.
Про ДСЖ в двух словах хотел рассказать про преимущества и т.д. ДСЖ. Но ДСЖ - долевое страхование жизни - является довольно-таки неплохим продуктом, который новый на рынке. Честно, еще не все с ним успели ознакомиться нормально, в полной мере поработать. Это сочетание, в принципе, страхования и инвестиций, где клиент самостоятельно выбирает ту или иную стратегию инвестирования. Есть нюансы, сейчас не буду вдаваться в нюансы, но я думаю, что многие знают: там есть ограничения в части выбора стратегии и т.д. Но я смотрю на этот продукт как дополнительный еще один вариант, инструмент, который не канибализирует клиентов открытых биржевых ПИФов и ПДСа того же самого. Это является одним из инструментов долгосрочных инвестиций.
Продукт нормальный, продукт адекватный, он займет, я считаю, свою нишу определенную. У нас по итогам 2024 года, если не ошибаюсь, life уже обогнал по объему страховых сборов, страховых резервов non-life. В мире такая же тенденция, где-то примерно тоже была оценка в начале года, когда запускали ДСЖ, что до конца года примерно объем будет 200-250 млрд. Ну то есть объем рынка довольно-таки неплохой, займет свой сегмент.
Есть нюансы в части управления: это управляет страховая компания сама, получая лицензию, либо управляется через управляющую компанию. Наша группа идет в направлении, что это будет от управляющей компании все-таки исходить вся инвестиционная экспертиза. Ну, продукт нормальный. Один из инструментов.
Владимир Брагин: Спасибо, Владимир.
Маргарита, вам слово как представителю самых долгосрочных продуктов, как вы видите в длину все, и что вам мешает или не мешает?
Маргарита Бородатова: Произойдет какая-то корреляция между рынком депозитов и фондовым рынком, это совершенно очевидно.
Я бы, наверное, хотела два слова сказать про дистрибуцию. Если мы говорим о продаже розничным инвесторам, мы должны обеспечить технологии и центры дистрибуции. Сегодня вот мы лично столкнулись… Ну, понятно, что крупные экоструктуры, они стараются максимально свои продукты продавать, и это, наверное, правильно. Но все-таки инвестор должен иметь на любой площадке доступ к инструментам, которые сегодня на рынке есть. Если мы не добьемся этого результата, мы затормозим развитие рынка, потому что это барьер очень существенный.
Мы, знаете, с чем столкнулись? Я не буду называть одну группу, которая работает с широкой розницей. Когда они увидели, что наши продукты востребованы и идет определенный поток в нашу сторону, они просто убрали продукты со своей витрины. Я считаю, что это недобросовестная конкуренция, с которой тоже, может быть, Центральному банку нужно посмотреть и поработать.
Но, пользуясь случаем, что я сижу рядом с Валерием, можно я все-таки маленький и, может быть, для рынка это будет очень полезный вопрос. Служба внутреннего контроля прямо мне письмо даже написала на почту. О чем письмо? За последние полгода мы получили от Центрального банка, от Центра по обработке отчетности Твери шесть предписаний. И так это грозно звучит: «Предписание Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации». Сейчас я вам буду рассказывать какие-то нарушения, и вы увидите. Наша инициатива заключается в том, что я очень уважительно отношусь к работе Центрального банка, потому что считаю, что это прямо вот двигатель нашего рынка, и он задает тренды, которые мы, хотим или не хотим, но идем в этом направлении и развиваем.
Но вот есть какой-то процент надзора, который формализован, который достаточно для нас… Я считаю, что можно его немножко упростить. Приведу вам примеры.
Значит, нарушаем законодательство Российской Федерации. Четыре из них - это неправильное название юрлица. В чем это выражается? В том, что по ЕГРЮЛу у тебя, например, форма собственности написана в начале, а в отчетности, я не знаю, попала в конце, или наоборот. Вот четыре.
Одно нарушение. Компания, у нее есть «уил» в названии (я не буду всю компанию называть), они 25 июня поменяли название «и» на «й» - это нарушение законодательства.
И еще, наверное, я думаю, что многие управляющие компании с этим столкнулись. Отправляли отчетность за март № 6292-У. Разъяснение Центрального банка, оно с нарушением законодательства о том, что согласно ЕГРЮЛ ты должен дополнять в ДУ название фонда. Значит, первую мы формируем отчетность… Ну вот, зал, поддержите меня! (Аплодисменты).
Значит, мы отправляем отчетность. 1 апреля выходит разъяснение о том, что вот ну не надо делать эту приставку. И нам приходит предписание по поводу сданной мартовской отчетности о том, что мы нарушили законодательство Российской Федерации. Мы услышали, и апрельскую отчетность, конечно бы, сдали с учетом этих разъяснений. Но, ребята, ну мартовскую-то физически невозможно сделать.
Я считаю, что давайте все коллективно попросим Центральный банк вот эти технические всякие недочеты, которые по существу не влияют на суть, мне кажется, можно обозначить не как нарушение законодательства Российской Федерации, а как предписание на исправление технических ошибок. Это будет, наверное, правильно и корректно. (Аплодисменты)
Знаете, что я еще хочу добавить? Дело в том, что это же не просто предписание. Мы же с вами понимаем, что любое предписание - это колоссальный объем формальной работы, и вот это занимает достаточно большое количество времени.
Валерий, прямо вот к вам как к представителю…
Владимир Брагин: Хочется поддержать Валерия в этой ситуации.
Валерий Красинский: Как бы так ответить, чтобы камни в меня не начали кидать после аплодисментов Маргарите. Завтра поеду в Москву на «Сапсане», он проходит через Тверь, видимо, придется выйти в Твери и спросить их.
Коллеги, смотрите, из-за того, что это не совсем по моей кафедре, сразу говорю, но, естественно, я попробую ответить. Во-первых, у нас по законодательству, вы это прекрасно знаете, только ограниченный набор форм мер воздействия, поэтому как называется предписание, оно называется так, как оно названо в законе. Назвать его по-другому это как бы… Если честно, я не совсем понимаю, что это дает по смыслу. Я сразу скажу, я не большой специалист в отчетности. Что я знаю: центр в Твери - это первичная входная точка отчетности, и у них высокая степень автоматизации. Почти все, что они делают в части мер воздействия и т.д. - это автоматизированный контроль. То есть это не то, что там сидит какая-то армия людей, которая выискивает, что «и» поменялась на «й», а вы не поменяли, ай-ай-ай. И потом ему за это премию выписывают, за то, что он это нашел.
Маргарита Бородатова: Нет-нет, мы это прекрасно понимаем.
Валерий Красинский: То есть это автоматизированная история. И я думаю, что и мои коллеги из департамента отчетности и мои коллеги из моего департамента, которые занимаются надзором, отчетностью, будут готовы, безусловно, провести какой-то диалог на эту тему. Я просто не знаю, какое здесь может быть решение.
Маргарита Бородатова: Нет, вот решение рынок предлагает.
Маргарита Бородатова: Да-да. Это может быть просто уведомление.
Владимир Брагин: Коллеги, у нас как-то дискуссия съехала уже совсем не туда. Давайте я на правах модератора возьму слово…
Валерий Красинский: Я бы предложил просто собрать подобного рода проблемы и от лица НАУФОР направить их в Банк России. Мы, соответственно, вместе с коллегами постараемся более комфортный какой-то режим найти здесь. Я совершенно не пытаюсь какого-то бюрократа включать здесь.
Владимир Брагин: Спасибо, Валерий. На самом деле я думаю, что и все согласятся, что когда у нас возникают подобного рода вопросы, это говорит о зрелости определенной рынка. Потому что когда у вас автоматизирован даже надзор, ну автоматизация, она приводит к тому, что часто количество работы увеличивается, как показывает практика, по крайней мере на первом этапе. Поэтому давайте все-таки наберемся терпения. Я надеюсь, Центральный банк тоже с нами в одной лодке, они тоже за то, чтобы рынок рос и их регулирование нам не мешало. Но тоже хотелось бы, чтобы Центральный банк быстрее реагировал на наши боли, в том числе.
Давайте поблагодарим наших участников. Спасибо. Надеюсь, всем было интересно.
Спасибо.
Я предлагаю начинать нашу вторую сессию. Вторая сессия у нас посвящена розничным продуктам, розничным фондам. Я как модератор планировал начать именно с того, как у нас прошли первые полгода, что у нас произошло на рынке, как вообще рынок развивался, куда мы двигались, как клиентов привлекали, как обучали и т.д.
Давайте на правах модератора немножечко дам такую затравку. Для нас первая половина года была такой несколько смешанной, то есть, с одной стороны, были и плюсы, были и минусы. Мы действительно, несмотря на то, что спрос инвесторов концентрировался в таких фондах денежного рынка по-прежнему, все-таки активно расширяли продуктовую линейку, в первую очередь БПИФы, и насколько мне коллеги подсказали, примерно треть фондов, которые были запущены вообще на рынке, это были фонды «Альфа Капитал».
Дальше действительно мы так активно, в общем-то, смотрели на варианты привлечения инвесторов в самые разные фонды. То есть понятно, что для рынка акций ситуация была достаточно сложной, и, конечно же, когда мы говорим про результаты фондов, и, к сожалению, ну что бы кто ни делал, то в текущих обстоятельствах сильно уйти от … рынка мы не можем. То есть рынок акций был слабым, ну и, соответственно, результаты фондов. И, кстати говоря, спрос клиентов, к сожалению, по-прежнему фокусировался на тех продуктах, которые показывали хорошие результаты, а это в первую очередь, конечно же, рынок коротких облигаций, то есть с плавающим купоном, и, конечно же, денежный рынок.
Новацией этого полугодия стали, конечно, авторские фонды. Мы тоже запустили у себя несколько фондов. Результаты пока, наверное, ну скажем так, смешанные. Потому что, действительно, фонды запущены, они работают, результаты в целом, я бы так сказал, неплохие, то есть где-то очень хорошие, где-то не очень, но в целом, на мой взгляд, очень неплохие. Но вопрос возник с тем, как, собственно говоря, теперь в эти фонды привлекать клиентов, потому что, действительно, с одной стороны есть вот эта идея о том, что авторские фонды блогеры смогут их активно продавать, ну вот сейчас происходит как раз тестирование этой вещи на практике.
Двигались в том числе и по непубличным инструментам, по закрытым паевым фондам для квалифицированных инвесторов, запустили сделку одну интересную по непубличным историям, ну, в общем, шли по всем направлениям. Поэтому я предлагаю начать дискуссию.
Начнем, наверное, с Олега Горанского. У вас, насколько я знаю, очень интересное было направление, которое пока, я так понял, немногие пытались, - это ИИС-ПИФ. Расскажите подробнее, как вы прожили первые полгода.
Олег Горанский: Добрый день, коллеги! Спасибо за возможность рассказать про наш продукт.
Хотел начать с того, что было интересно инвесторам в начале года и что мы видим дальше. Начало года и, наверное, до конца года мы видим, что тренд все-таки будет оставаться интереса в фондах денежного рынка, по-прежнему инвесторы с удовольствием идут в эти стратегии, но менее интересно смотрят на облигации и на акции. Но облигационный рынок вроде начал оживать, и облигационные фонды показывают определенный рост привлечений, чему мы, конечно, рады.
Но вернемся к ИИС-ПИФ. Это достаточно инновационный продукт, обсуждался он на рынке достаточно давно, мне кажется, первый раз это обсуждение было еще в 2020-м, в период ковида, когда регулятор обращал наше внимание на то, что покупать паи наших фондов в стратегии доверительного управления стандартные может быть сомнительной практикой. И тогда родилась идея создания такого продукта на базе ПИФов.
Нормативка, которая у нас есть, получилась достаточно понятной и эффективной. Был ряд вопросов юридического толка, которые приходилось нам разрешать. Сейчас мы видим, что механизм рабочий.
В начале июня мы запустили первый на рынке ИИС-ОПИФ под названием «Левитан». Продукт, к сожалению, не выстрелил в том виде, в котором мы ожидали. За прошедшие два месяца мы смогли в него привлечь около 50 млн рублей, что для нас не выглядит хорошим результатом. Но тем не менее мы планируем линейку наших фондов развивать, и до конца года планируем запустить как минимум один, а может быть, и два фонда, для того чтобы закрыть и облигационную, и акционную стратегии и предоставить инвесторам возможность динамически выбирать то, как они хотят инвестировать средства, находящиеся на ИИСе.
Что из проблем нам видно на текущий момент? Это проблема, конечно, долгосрочных инвестиций. С одной стороны, нам и президент, и Банк России говорят о том, что нам целесообразно делать длинные продукты, для того чтобы увеличивать долгосрочную капитализацию нашего рынка. С другой стороны, мы видим, что для многих клиентов, по отзывам клиентских менеджеров, пятилетний срок открытия ИИСа - это очень много, и они не готовы вкладывать на такой срок.
Да, наверное, эта проблема решается образованием. Но, кажется, что если у нас срок ИИСа будет динамически повышаться в течение следующих лет до 10 лет, это будет большой проблемой для развития ИИС-ПИФ, ну и вообще всей линейки ИИСов, которая у нас сейчас предусмотрена.
Также для многих является проблемой отсутствие возможности вывода купонов дивидендов со счета ИИС без прекращения ИИС. Также отдельный вопрос, с которым мы раньше не сталкивались, сейчас у нас разрешено выводить денежные средства с ИИСа в случае особых жизненных ситуаций, и сейчас они связаны в основном с заболеваниями. И оказалось отдельной такой задачей, как научить розничную сеть получать от клиентов корректные документы для того, чтобы они могли реализовать эту льготу. У нас пока прошло только обучение и не было кейсов, когда фактически приносили такие справки, ну мы с интересом смотрим на то, каким будет такой первый случай, не дай бог, он у кого-то наступит. Но тем не менее это отдельная проблема, потому что нет типовой формы справки, соответственно, мы ожидать там все что угодно, любые диагнозы, которые не факт, что будут соотноситься с теми, на которые нам можно выводить. Ну, наверное, эта проблема может быть разрешима.
В целом продукт интересный, мы планируем в дальнейшем развивать эту линейку и стимулировать привлечение в него.
Спасибо.
Владимир Брагин: Олег, а можно вопрос от меня? Просто мы когда говорим по ИИС и говорим, что это пятилетний продукт в первую очередь, ну то есть, собственно говоря, это длинная инвестиция. А вот как вы относитесь, потому что у нас есть некая идея такая - подумать, предложить, чтобы в ИИС все-таки были не совсем ПИФы, потому что там вопрос ликвидности, а, например, инвестиционные продукты, которые по природе сами по себе неликвидны, например, недвижимость или прямые инвестиции. Вот как вы вообще на это смотрели, думали об этом?
Олег Горанский: Честно, наша компания больше ориентирована все-таки на ценно-бумажные инструменты, и в плане ценных бумаг мы, конечно, стремимся предложить клиенту максимальную диверсификацию, хотя мы видим, что, по статистике, по ИИСам мы один из крупнейших операторов на ПДУшном, мы видим, что распределение интереса клиентов там на 80% в районе самых консервативных стратегий. Даже смешанные и акционные стратегии, они там занимают порядка смешанные - 7 с чем-то процентов и меньше 5 - это акционные.
Поэтому концептуально как идея я думаю, что это интересная мысль, уверен, что Екатерина нас поддержит с ИИСом на ЗПИФы. Но, кажется, что это сложная история.
Владимир Брагин: Спасибо, Олег.
Мы немножко просто с разных аспектов сегодня хотели обсудить проблему как раз розничных инвестиций первого полугодия.
И слово хочу передать Митюкову Евгению из «Т-Капитал» - рассказать больше про БПИФы немножко с другой стороны, уже пойдем с другой стороны - именно ликвидные, розничные, ну и, наверное, без налоговых преимуществ, как я понимаю, или с ними?
Евгений Митюков: Нет, конечно, с ними, как же без налоговых преимуществ.
Коллеги, добрый день!
Хочется начать, наверное, от общего к частному. Мы сегодня получили очень хорошие общие цифры от Ольги Юрьевны Шишлянниковой, от Александра Абрамова, которые показали нам, что рынок наш на самом деле не очень большой. И в этом плане хочется присоединиться к Екатерине, повозмущаться, что как так - всего 3 трлн рублей, и сразу вспомнить известную фразу: «Раз вы такие умные, что ж вы такие бедные» в плане активов.
Почему так получилось? Мы понимаем, что на самом деле вот эта ситуация, она не живет в отрыве от той рыночной среды, в которой мы все живем, которую мы ощущаем в реальности, ну или, как многие наши инвесторы в «Т-Капитале», на экране мобильного телефона. Это нужно понимать.
И тут хочется выделить три главных тренда, которые влияли на то, как, собственно говоря, жил рынок БПИФов в первом полугодии.
Первый тренд, конечно же, - это все еще высокая ключевая ставка. Да, у нас продолжается крестовый поход против инфляции. Центральный банк уверенно идет к победе. Вчера мы как раз видели очередную недельную битву за инфляцию, инфляция была побеждена в пух и прах, когда мы увидели минус 0,05. Посмотрим, что будет в пятницу. Но все равно еще инвесторы, которые смотрят на эти цифры, видят ключевую ставку 20% и как бы говорят: «А зачем мне рисковать?». Они у нас в целом вообще пугливые, не толерантны к риску, у них нет долгосрочного горизонта. И когда им дают эффективный депозит, а денежный рынок - это эффективный депозит, там нет маржинальности банка, ну или она минимальная, там нет каких-то комиссий, там есть максимальная ликвидность, и они говорят: «Вот! Это мне надо». И вот, собственно говоря, на всей вот этой истории индустрия ехала весь прошлый год, наращивая СЧА фондов денежного рынка, и это продолжалось еще в первом полугодии этого года.
У нас, выражалось это в БПИФе, потому что у нас некий неудовлетворенный спрос экосистемы на этот продукт, мы его запустили(?) чуть позднее. У коллег, я знаю, у УК «Первая» это уже продолжалось в виде ОПИФа, когда у них есть продукт, который в принципе ориентирован на такой квазиденежный рынок или очень похож денежный рынок, но уже ОПИФ. И вот это был тренд.
Да, сейчас уже мы все видим, что вот этот поезд или эта станция - высокая ключевая ставка - как бы там поезд начинает уезжать, и инвесторы начинают переключаться в следующую историю - как отыграть снижение ставки. И в последние два месяца уже есть некий спрос на облигационные продукты. Да, это как фонды на ОФЗ, да, у нас есть такой, как в принципе в целом облигационные фонды корпоративного сегмента, где как бы уже идут притоки, в том числе у нас и в том числе у других коллег на рынке. Но это история … политики, всем нам понятна, всем известна, и как она отыгрывается, я тоже думаю, что ни у кого не вызывает сюрпризов.
Вторая история, это история такая более тяжелая - это рынок акций. Капитализация у нас на рынке акций, если по фри-флоат ее считать, порядка 6 трлн рублей, и все ПИФы на российские акции - это около 400. Вот к чему мы пришли, вот как у нас распределен рынок коллективных инвестиций на рынке акций.
Почему так? Ну потому что люди, которые принимают тут волатильность, которые толерантны к ней, они не идут в ПИФы, они как бы считают, что они сами все знают. Не то чтобы они все знают по их доходностям, но вот у них есть такая уверенность. А вот массовый инвестор, он готов идти в денежный рынок, может быть, в облигации в свое время, но не в рынок акций. Почему? Потому что к текущей волатильности, а она очень высокая, то есть волатильность рынка акций, мы все помним вот эти ночные звонки, переговоры президента Путина с президентом Трампом - рынок улетает вверх, потом вводятся тарифы на торговлю Америки со всем миром - рынок улетает вниз, потом еще какие-то истории, что переговорный трек замедляется, прогресса нет - и вот эта волатильность, она инвестору очень некомфортна. Ему было комфортно году в 2013, когда рынок более-менее спокойно рос, волатильность была невысокой, и он туда приносил свои деньги, не то чтобы очень большие, но приносил. Сейчас, в текущей волатильности, ему это неинтересно, и это проблема, которая… ну за него надо бороться, только когда она будет снижаться. Тогда это будет какое-то время акций, оно, конечно, безусловно, настанет, но пока там спроса, как подтверждают коллеги, мы не видим никакого.
Мы запускаем продукты, то что Александр Абрамов говорил, что вот факторные фонды. Мы запустили факторный фонд, он показывает хороший перформанс, мы понимаем, как это работает, но как такого спроса и трекшена на это не возникает в данный момент. И вот это реальность, которую мы сейчас наблюдаем.
Ну и фактор номер три, что еще происходило на рынке и как это влияло на рынок БПИФов - это все-таки укрепление рубля. Я думаю, все понимают, что после 12 июня прошлого года, когда были введены санкции на Мосбиржу, ситуация поменялась. Раньше был такой тиккер в приложении или на бирже - доллар. Можно было купить, вывести, чтобы куда-то его инвестировать, куда-то его потратить. А потом его не стало. Ну все, отрезали, вот доллара больше не стало. Долларовых депозитов тоже в принципе особо уже на рынке и нет, потому что банкам особо некуда их размещать. И инвестор, когда видит, что рубль укрепляется, он действует скорее здесь контртрендово, то есть он начинает его покупать, начинает покупать доллар против рубля. И вот наш БПИФ на замещенные облигации, то есть на валютные инструменты, вот он в этом году естественным образом, без какого-либо даже сильного промоушена вырос в четыре раза, просто на том, что люди искали альтернативу вот этому тиккеру, вот этому инструменту валютному. Да, несмотря на то, что фонд, отрицательная доходность в этом году. Ну, опять же, укрепление рубля, валютные инструменты, естественно, они будут в рублях в минусе. Но это не останавливало инвесторов от того, чтобы заносить и довносить деньги в этот инструмент.
Вот, наверное, эти три тренда - монетарная политика, высокая волатильность рынка акций, ну и укрепление рубля - это то, что определяло наши первые полгода с точки зрения рынка БПИФов.
Владимир Брагин: Евгений, у меня вопрос, опять же, такой немножко больше про инвесторов. Да, у нас есть эти колебания рынка и есть определенное изменение настроения инвесторов. Вот вы по притокам/оттокам, интересу к фондам видите некое просто зеркало того, как наблюдается тот же самый интерес, например, скажем, на отдельные акции и облигации, или это все-таки немножко разные вещи?
Евгений Митюков: Нет, это все-таки разные вещи, потому что инвесторы разные. В акции, мы видим историю, что инвесторы любят покупать российские акции отдельно именно, ну в целом мы видим, что они не покупают фонд, они покупают отдельные акции, когда рынок корректируется. Вот у нас позиция инвестора «buy the dip» («упала - надо купить»), выросла - он, скорее всего, будет продавать. Вот он в этой волатильности пытается заработать вот так. Но это инвестор, который в принципе понимает, что он хочет от жизни, от фондового рынка, от рынка акций. А притоки какие-то постоянные системные на рынок в ПИФы акций, что у нас особо их практически нет, что у коллег их особо нет, несмотря на даже результат.
Владимир Брагин: То есть я правильно понимаю, что по сути дела… То есть приток в ПИФы акций опять у нас будет, когда рынок вырастет?
Евгений Митюков: Ну, конечно, так всегда бывает: сначала он должен вырасти, потом люди будут его покупать. По-другому у нас пока не бывает. То есть идея о том, что высокая волатильность транслируется в высокую будущую доходность, она пока нашему инвестору относительно чужда.
Владимир Брагин: Спасибо, Евгений. Ну вот, к сожалению, да, реальность такова.
Дальше хотел дать слово Владимиру Сердюкову (УК ПСБ). Вопрос про то, как вы боролись за клиентов в это полугодие, что у вас нового?
Владимир Сердюков: Уважаемые коллеги, друзья, добрый день!
Интересные, конечно, были полгода, интересный вопрос, в принципе, немножко рассмотреть и поговорить про клиентов и про рынок, наверное, не столько со стороны продуктов, доходности и т.д., но и про то, что мы делали, про развитие той финансовой грамотности, которую мы как раз использовали, те методы по работе с клиентами, мне кажется, будет интересно обсудить и рассказать наш наработанный опыт.
В принципе, наша команда сформировалась относительно недавно, это примерно около 4-5 лет назад. И мы, как, наверное, любая классическая команда управляющей компании, начали с чего? Мы сформировали модель продаж, мы сформировали сервисную модель, мы сформировали продуктовую линейку, поставили инвестпроцесс и следующим этапом сформировали обычную классическую школу по финансовой грамотности, где простым языком любой клиент, любой потенциальный инвестор может получить определенные азы финансовой грамотности и т.д. Это все было очень просто, мы это сделали.
Но рынок меняется, рынок идет дальше, инвестор меняется. И в какой-то момент в процессе взаимодействия с клиентами, особенно в периоды, наверное, 2020, 2022, 2024 год, в том числе, мы начали сталкиваться немножко с другой ситуацией: что нужно уделять внимание не только терминологии, не только объяснению про доходность, не только объяснению азов и нюансов фондового рынка, но и поговорить и посмотреть на немножко другой аспект - на психологию поведения и на то, как человек принимает те или иные решения в разных фазах рынка либо что-то происходит еще вовне, макроэкономические какие-то факторы либо санкционное давление, какие-то факторы еще дополнительные.
В этот вопрос мы углубились, мы провели и проводим у нас такие глубокие относительно исследования уже в течение несколько лет, и очень интересно посмотреть тенденцию, как она формируется, как меняется клиент, как меняется его поведение, как меняются его предпочтения в течение определенных нескольких лет.
Вот, например, мы уже сформировали индекс финансовых достижений, это в виде анкетирования проводится по регионам России среди розничных инвесторов. И интересно даже за последние два года как изменилось отношение инвесторов и изменилось само поведение инвесторов в первую очередь.
Что такое розничный инвестор в 2025 году? Вот первое полугодие - с чем мы столкнулись? Он стал за последние два года, и это проявилось особенно ярко в этом году, более взвешенный, он научился более взвешенно принимать решения. Но фактор страха не ушел никуда, особенно в части долгосрочных инвестиций, страх не ушел никуда.
Вторая история. Немножко расскажу, здесь один нюанс возникает, такая коллизия возникла. С одной стороны, он становится у нас взвешенный, но возникает другой парадокс: с учетом развития технологий у нас сейчас с телефона можно за пять минут купить билеты, поехать куда-нибудь в поездку, заказать еду и т.д. У клиента тоже появляется возможность через приложение купить паевые фонды, инвестиционные продукты очень быстро. И с чем мы столкнулись? С одной стороны, мы видим, что вроде клиент более взвешенно принимает решения, но здесь, когда через онлайн-канал очень большой процент людей, которые принимают решения, покупая продукт, не понимая, зачем он им нужен, не понимая, не ставя перед собой цели. И доля таких клиентов, к сожалению, очень большая. То есть здесь мы столкнулись с такой коллизией, что скорость внедрения и использования IT-технологий и т.д., она превышает, наверное, ту осознанность, именно осознанное инвестирование клиента. То есть клиенты берут, пока не понимая, зачем им это нужно.
Для нас это вызов, и вызов не только для нас, но и для всей индустрии. Потому что нам необходимо, с одной стороны, восстановить этот баланс, чтобы скорость соответствовала осознанности, но и с другой стороны, мы должны, конечно же, проработать путь перехода, вот то, что я сказал про осознанное инвестирование.
Наш клиент на текущий момент больше уже подходит под европейский тип модели, когда принимаются более взвешенные решения, мы не принимаем панические какие-то решения, с одной стороны, это то, что мы видим из исследования. Причем мы исследование проводили не среди своих клиентов, мы проводили глобально среди розничных клиентов по всей стране. Там очень интересное распределение по регионам, оно, конечно, там очень варьируется сильно, но в среднем примерно динамика в таком ключе идет. Наша задача - как раз таки вернуть баланс в эту сферу и помочь человеку не просто купить продукт, а понять, для чего он это делает, для чего он инвестирует в тот или иной продукт.
Как этого можно добиться? Ну, здесь все очевидно: самый простой путь - это, конечно, через обучение, через повышение финансовой грамотности. Логично, очевидно, мы это обсуждаем уже несколько лет, мне кажется, на всех конференциях и т.д. это звучит. Но в текущих реалиях мы пришли вот к чему, повторюсь: что по поводу финансовой грамотности это уже не вопрос просто терминологии, это не вопрос рассказать, что за продукт, как он работает и т.д., это вопрос уже работы с клиентом в части формирования его доверия и с его поведением.
К чему я веду? К тому, что на первый план уже выходит вопрос того, что, например, инвестор инвестировал, мы понимаем, что он заходит на долгий срок, падает у него фонд, СЧА слетает на 5-6%, на больше - 8-9%. Первоначально, что начинает клиент? Клиент начинает паниковать. Вот первое, чему нужно научить клиента, попробовать работать с ним, чтобы не возникала паника, и с этой паникой работать. То есть он должен понимать, для чего он зашел и на какой срок. Временные просадки, они возможны, но инвестиции - это опять же больше про долгосрок. То есть необходимо выработать у клиентов, у инвесторов иммунитет к паническим решениям - это первое.
Второе - сформировать все-таки понимание и умение долгосрочных инвестиций и каким образом их достигать, то есть какими ресурсами, какими продуктами этого можно достичь.
Чуть позже мы обсудим про долгосрочные инвестиции. У нас, в принципе, довольно-таки большой спектр на рынке продуктов и инвестиционных решений, которые позволяют это сделать, но люди пока не верят, то есть люди пока в это не идут.
И теперь, переходя к практике больше. То, что мы сделали в части финансовой грамотности у себя, у управляющей компании по работе с клиентами - мы пошли по пути обучения через поведение.
Первое - это больше такая теоретическая история, когда мы встречаемся с клиентами и начинаем на примере каких-то живых кейсов рассказывать о том, каким образом не нужно было паниковать в этой ситуации, какие нужно было бы оптимальные решения принимать в такой-то ситуации, и на что клиенту обращать, на какие триггеры, и куда обращаться.
Второй момент. Мы внедрили у себя, но, правда, еще не автоматизировали, это длительная история, - это работа как раз таки с клиентом во время всяких триггерных историй, которые происходят на рынке. То есть если у нас происходит какая-то волатильность, у нас идет коррекция на рынке, какое-то падение, какие-то слухи пошли в Телеграм-канале и т.д., мы начинаем делать первый шаг к клиенту. Мы не ждем, пока клиент к нам обратится, мы идем точечно по клиентам, рассказываем и показываем то, что происходит, применительно конкретно к его портфелю. Чтобы не было паники, не было досрочных выводов, когда идет с убытками т.д., мы рассказываем, каким образом эта история работает, что мы дальше видим и каким образом мы можем сбалансировать эту историю.
И третий большой подход, который мы начали в этом году. Все-таки помимо того, что процесс инвестирования вроде всем понятен, но у нас пока культурно он не заложен, у нас нет в культурном коде пока процесса инвестирования, особенно если говорить про долгосрочные инвестиции. И здесь мы на базе своей школы инвестора сделали новое направление по развитию финансовой грамотности уже для детей. То есть мы здесь уже не говорим про клиентов, мы говорим про детей. Это не для выполнения наших KPI, потому что понятно, что дети не станут нашими клиентами в моменте, это больше про такое социальное направление, про развитие и понимание инвестиций, чтобы инвестиции вошли, ну фактически геном стали с самого детства, чтобы было понятно для чего эта история нужна.
И вот таким образом, через обучение, через взаимодействие с клиентом, через его поддержку мы как раз таки и пытаемся решить проблему и, наверное, развить эту историю, пытаемся создать главное - создать доверие клиента к инвестициям как долгосрочным, так, возможно, и более краткосрочным инвестициям. Но фактор доверия, к сожалению, у нас на текущий момент к инвестициям отсутствует.
Поэтому когда мы говорим про долгосрочные инвестиции в 10-15 лет, к сожалению… Да, продукты есть, структура есть, но клиенты не верят, клиенты не идут. Клиенты много на чем уже обожглись, разный опыт есть, не совсем понимание есть. И очень часто, с чем мы сталкиваемся, когда клиент говорит в открытую: «Понятно, вы мне хотите продать, у вас есть KPI, вы его хотите выполнить…». Поэтому здесь, наверное, если перейти больше в долгосрочные инвестиции, то что важно, мне кажется на текущий момент, это уйти, наверное, от понимания принадлежности того или иного продукта той или иной управляющей компании, той или иной финансовой группе, а пойти от такой социальной миссии, рекламы, маркетингового продвижения именно продуктов со стороны, конечно, в первую очередь регулятора, СРО, чтобы показать нюансы, плюсы, преимущества, и только после этого показывать финансовую группу. Иначе мы не добьемся этого результата.
Мы в управляющей компании часто говорим, что мы управляем активами. Мы пришли к тому моменту уже развития рынка, когда мы должны говорить уже не «мы управляем активами», а в первую очередь и важнее всего, что «мы начинаем управлять доверием». А доверие строится от простого - как мы продали клиенту продукт, что мы ему об этом рассказали, в какой момент мы его поддержали, кому он может позволить, с кем найти контакт и т.д. То есть вот это постоянное взаимодействие должно постоянно строиться.
Недавно буквально у меня была встреча с одним из наших клиентов, и такая фраза прозвучала в конце встречи, она была отрадной и приятной, конечно, он сказал: «Я, возможно, не могу отличить, я не знаю, что такое «дюрация» в деталях и, может быть, не могу отличить акцию одного эмитента от другого, не особо разбираюсь в налогах и т.д. Но я прекрасно понимаю, если у меня падает фонд или что-то происходит, я не паникую. А если у меня возникает паника, я знаю, кому позвонить, с кем поговорить и кто меня утешит». Это не психолог, это тот клиентский менеджер, который с ним работает.
Спасибо.
Владимир Брагин: Коллеги, если есть кому что-то добавить, включайтесь. А я пока вопрос задам, точнее, два вопроса.
Первый. Вы ваше исследование где-то опубликовали, его можно почитать?
Владимир Сердюков: Да, мы публикуем результаты на нашем сайте, ссылку могу дать.
Владимир Брагин: То есть на сайте можно найти у вас, да? Отлично.
И второй вопрос. Может быть, это в исследовании есть, но просто хотелось бы спросить. Если взять клиентов с малым чеком, с большим чеком, то в среднем как примерно отличается поведение и уровень представления о рынке, его финансовая грамотность в каких-то аспектах? Как-то можете этот момент прокомментировать?
Владимир Сердюков: Хороший вопрос. Понятно, что клиент, ну здесь, скорее, логично, что клиент с большим чеком чуть больше погружен, плюс очень часто у клиентов прайвет-сегмента есть финансовые консультанты, которые консультируют, которые ведут их портфели, фэмили-офисы и т.д. Это одно направление. Поэтому, отвечая напрямую, - да, у них возможностей больше.
У розничных инвесторов знаний, конечно, на порядок меньше, существенно на порядок меньше. Но и для розничных инвесторов с меньшим чеком мы, например, ну и большинство на рынке, и конечно, и то, что Банк России сейчас активно продвигает историю о том, чтобы для массовых клиентов были какие-то простые продукты коробочного типа, чтобы не были сложными продукты, продукт должен быть понятным. То есть, да, знаний меньше, но есть и продуктовые предложения для соответствующего типа клиентов.
Владимир Брагин: А вот новое поколение, если брать, инвесторов, ну условно говоря, молодых инвесторов, которые только-только… Вот что у них? Там совсем ноль или все-таки есть надежда?
Владимир Сердюков: Нет, там есть надежда. Конечно, текущий уровень образования, не скажу, что прямо прозападный или не прозападный, но знаю по своему поколению, по поколению позже которое, соответственно, уровень финансовой грамотности повышается за счет, конечно, образования в университете, за счет получения дополнительной информации из интернета, источников и т.д. Наши родители, поколение моих родителей, например, они очень сильно обожглись, например, в 90-е. Да, уровень финансовой грамотности на текущий момент, да, они понимают, что это за продукты, я им могу подсказать в деталях и т.д., но, к сожалению, эти все «пирамиды» - они на этом в свое время обожглись. И для того чтобы их переубедить, например, сейчас инвестировать на 15-20 лет или еще что-то, это практически нереально. То есть они верят в цикл 2-3 года, депозит, спокойнее и т.д. А лучше, где кто-то из детей работает. Ну, у меня просто семья большая, поэтому…
Владимир Брагин: Понятно. Спасибо, Владимир.
Я немножко нарушу порядок, о котором мы договаривались. Я думаю, здесь, наверное, Маргарите будет правильно продолжить тему, потому что, действительно, УК «Доход», наверное, она наиболее активная в таком очень сложном сегменте, как целевые фонды, фонды долгосрочные.
Расскажите, как у вас получается, и в чем проблемы? Может быть, есть и достижения? Потому что действительно тема очень сложная, насколько я знаю.
Маргарита Бородатова: Коллеги, добрый день!
Мне кажется, что спикеры первой панели так много поставили вопросов по рынок коллективных инвестиций, что нам гораздо легче на этой панели сегодня рассказывать.
Что касается нашей компании, мы на самом деле работаем с инструментами долгосрочных инвестиций. У нас есть линейка и ОПИФов, и БПИФов.
По ОПИФам мы достаточно давно занимаемся детским инвестированием. Мой коллега сказал о том, что они занимаются просвещением детей, а мы на самом деле давно сделали продукты для детей, и в эти продукты вкладывают родители. На самом деле линейка ОПИФов, которую мы сделали, по срокам самый большой срок - 2045 год. Я вам могу сказать, что вкладываются, как ни странно. Линейка наша состоит из четырех фондов и называется «Доходъ. Будущее», там 2030 год, 2035, 2040 и 2045 год.
Из чего мы исходили? Мы посмотрели западную практику и посмотрели, что у нас сегодня происходит на рынке. У меня три внука, когда у них день рождения, они завалены этими подарками, эти подарки рассматриваются ну в течение месяца. А на Западе принято дарить деньги. И когда ребенок рождается, когда идет в школу, когда у него какие-то события, то родственники, друзья дарят деньги. И мы исходили тоже из позиции, что нужно нашего инвестора приучать к тому, что нужно ребенку создавать свой капитал. Почему? Потому что те фонды, которые приобретают на имя ребенка, они отделены от наследственной массы, они отделены от возможных бракоразводных процессов, то есть это уже собственность ребенка. Плюс ко всему там какие-то льготы, которые у нас есть на рынке, при долгосрочном инвестировании он получает эти льготы.
И когда мы рассматривали создание такой линейки, мы сначала думали: нет, ну надо делать шаг - один год. Потом мы подумали, что 18 фондов - ну, наверное, дороговато. Решили, что, наверное, нужно сделать шаг в три года. Ну и все-таки остановились на пятилетнем шаге, потому что, вот коллеги правильно говорят, рынок еще не очень готов к таким долгосрочным инвестициям.
Но тем не менее я сегодня могу сказать, что когда начинаешь с инвесторами разговаривать, то первое, вот старшее поколение, которое столкнулось с перестроечными временами, они сразу приводят пример «Росгосстраха», когда страховали ребенка к его 18-летию, к свадьбе, и в результате, я помню по собственному опыту: моя мама застраховала сына и каждый месяц платила 17,5 руб. Чтобы вы понимали, 17,5 руб. при тех зарплатах, когда колбаса стоила 2,20 руб., это очень существенные деньги. В результате ребенок был застрахован на тысячу, ну и когда он получил тысячу в 90-х годах, то были совершенно копеечные деньги. И вот когда начинаешь со старшим поколением разговаривать об этом, они сразу вспоминают эту историю. И здесь я, наверное, коллегу поддержу: старшее поколение, они очень аккуратно к этому относятся, с одной стороны. С другой стороны, старшее поколение уже имеет какой-то капитал, и, например, бабушки, дедушки, они готовы вкладываться в детские портфели, и мы это наблюдаем.
Что интересно? Что стратегия вот этих фондов, она, конечно, плавающая, потому что первые 2/3 периода - это стратегия формирования капитала, а 1/3 - это уже сохранение капитала, и, соответственно, процентное соотношений акций и облигаций, оно меняется. То есть максимально большой процент акций в 2/3 периода этих фондов и потом потихонечку ребалансировка и переход в более консервативные инструменты.
Что я могу сказать? Первая панель очень много интересного рассказала, но мне кажется, что мы с вами находимся на сломе технологий. И сегодня, к сожалению, технологии опережают реальности. Вот Кириллов говорил о том, что да, нужно, чтобы фонды могли продавать в тот же день. И я вам могу сказать, что, обсуждая сегодняшнюю конференцию, мы пришли к выводу, что для Центрального банка мы могли бы сделать предложение о том, что ОПИФы, для того чтобы они перешли в кликабельность одного дня и продажу паев в онлайне, необходимо, чтобы они взяли практику БПИФов расчетов iNAV. Когда будет iNAV рассчитываться у ОПИФов, тогда мы получим с вами покупку паев в этот же день. И мне кажется, если Центральный банк рассмотрит такую ситуацию… Это, конечно, сложно, но тем не менее.
Почему я говорю о сломе технологий? Потому что я думаю, что в ближайшие три года мы увидим с вами развитие платформ с искусственным интеллектом, когда у нас с вами будет уже не Google, Яндекс, а когда у нас будут платформы, и мы можем легко там купить билеты в театр, заказать билеты на самолет, и все это сделает помощник ИИ. Я думаю, что фондовый рынок никак не изолируется и не избежит этой ситуации, и наш инвестор, а его можно разделить по возрасту, инвестор, который привык звонить по телефону и узнавать, как ситуация, и вот молодежь, которая сегодня решает все вопросы, не отходя от компьютера, конечно, они будут пользоваться этими помощниками. Конечно, информирование должно все идти уже через помощников ИИ. Ну это так, немножко я в сторону отошла.
Вторая линейка - это линейка БПИФов. Мне тоже очень понравилось, что прозвучало на первой панели о том, что содержание БПИФов это очень дорого удовольствие. И те вознаграждения, которые компании получают, они пускают в основном на развитие. И меня не удивила цифра в 25% управляющих компаний, которые сегодня в минусе. Потому что если у тебя небольшой объем в управлении, ты не имеешь достаточно ресурса для того, чтобы покрывать затраты и развиваться, потому что, как ни странно, зарплаты все-таки растут, дефицит кадров есть. У нас очень интеллектуальный рынок, и мы от этого не уйдем, эта затратная часть будет только повышаться. Все, что мы можем сделать, максимально перейти к развитию технологий и автоматизации нашей индустрии.
О чем еще хочу сказать? Про БПИФы. Мы создали такой, скажем так, продукт, который состоит из трех фондов, и это, наверное, всепогодный такой облигационный фонд с целевой датой. Наверное, самое главное я забыла сказать, что фонды для детского инвестирования - это тоже фонды с целевой датой. То есть на определенную дату на 2030, 2035, 2040 и 2045 год - это фонды с целевой датой.
Почему я говорю, что всепогодный вот этот продукт, состоящий из трех фондов? Потому что структура фондов, она сформирована следующим образом: каждый фонд, он рассчитан на трехлетние облигации. Первый фонд - это погашение декабрь 2025 года, 2028-го и 2031-го. То есть приходит дата 21-го, и мы сразу покупаем облигации на более долгий срок. Соответственно, второй фонд сдвигается на год - это 2026, 2029, 2032-й. И третий фонд - это 2027 год, 2030-й и 2033-й. Ну и вы понимаете, что первый фонд, второй и третий, пройдя целевые даты, он переходит на новые целевые даты. И инвестор, если он хочет работать на рынке облигаций, он, по сути дела, получает уникальный сервис, аналог такого всепогодного депозита.
Да, есть некоторые, наверное, недостатки у этих фондов. Потому что когда происходит там смена ставки, то это тоже может повлиять: если ставка увеличивается, соответственно, длинные облигации проигрывают, но за счет того, что создан баланс в этих инструментах, в каждом фонде есть и короткие, и средние, и длинные облигации. Поэтому вот эта психологическая нервозность инвестора от изменения ставки, она будет нивелироваться.
Есть немножко времени? Я еще про исследование расскажу.
Владимир Брагин: Давайте, если очень коротко.
Маргарита Бородатова: Коротко. В 2024 году мы познакомились с исследованием Шварц центра фор финанс ресерч(?-41.43). Это исследование проводилось на периоде 30 лет, и исследование ставило себе цель определить, насколько меняется доходность в зависимости от точки входа. Было пять моделей и очень простые правила: инвестор инвестирует тысячу долларов ежегодно на протяжении 30 лет. И пять моделей.
Первая модель - инвестор вкладывался в течение года по минимальным ценам рынка. Вторая модель была, когда инвестор вкладывался в первый торговый день года. Третья модель была, когда он разбивал на 12 месяцев и каждый месяц покупал бумаги в первый торговый день месяца. Четвертая модель была - по максимальным ценам рынка за год. А пятая модель - инвестор никак не мог решиться, когда же войти, и он все время держал деньги на депозите.
Мы повторили это исследование на нашем рынке, на наших цифрах, используя наш индекс дивидендных акций, только на двадцатилетнем периоде. Мы взяли период 2004 год - 2023 год. И что мы получили?
Мы взяли 100 тысяч, ну мы так решили, что тысяча долларов - это примерно 100 тысяч рублей, и ежегодно наш инвестор инвестировал 100 тысяч рублей. Модели были те же самые - минимальные цены, первый торговый день, разбивка на месяцы, максимальные цены и депозиты.
Первый инвестор за 20 лет получил среднегодовую доходность 19,9%, и у него на счете образовался 21 миллион.
Второй инвестор (вторая модель) - у него доходность была 18,1% (17 миллионов).
Третья модель - 17,4% (15 миллионов).
Четвертая модель, когда по минимальным ценам - 11,6%, это среднегодовая доходность (11 миллионов).
И инвестор, который не решился вложиться в рынок акций, а вкладывался только в депозиты, у него на счете 5 миллионов и доходность - 8,3%.
Прошу вас учесть, что это мы включили декабрь 2023 года, то есть это уже период 2022-2023 год, все падения.
Это говорит о чем? О том, что долгосрочные инвестиции, они очень интересны на самом деле. Просто, наверное, наш инвестор еще не совсем это до конца понимает и не совсем доверяет рынку. И, наверное, наша с вами задача все-таки вот как-то работать в этом направлении, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно и доверительно в отношениях с нами.
Но пожелание к Центральному банку у меня все-таки, чтобы мы смотрели на технологическое развитие. Потому что нельзя допустить вот этот разрыв.
Наверное, все у меня.
Владимир Брагин: Я все-таки по традиции, сложившейся сегодня, задам вопрос по поводу как раз таких долгосрочных портфелей. Классический подход, он действительно такой, что в начале срока мы почти все инвестируем в акции, потом постепенно доля акций у нас снижается.
Мы тоже внутри делали подходы к этому снаряду, думали, может быть, тоже подобного рода продукты запускать. Но возник первый вопрос следующий: хорошо, вот мы сейчас соберем какое-то количество долгосрочных инвесторов, ну в кавычках, которые консервативные, которые хотят… Мы закупим акции, и рынок акций начнет, как обычно, двигаться туда-сюда. Не пугает ли это инвесторов в начале пути? Вот такой вопрос. Потому что путь длинный, но в самом начале он самый страшный. Не думали ли вы какой-то вопрос, может быть, с постепенным входом в рынок через акции или как-то так, то есть подумать неклассическим способом?
Маргарита Бородатова: Знаете, мы достаточно плотно работаем с соцсетями. У нас на самом деле объем подписчиков соцсетей во всех примерно 150 тысяч, в одном телеграм-канале у нас 74500, и мы стараемся этот телеграм-канал сделать очень таким целевым, и все возможные нюансы рынка мы обсуждаем именно, мы стараемся объяснить поведение инвесторов, объяснить, с какими процессами он может столкнуться. То есть вся та практика международная и российская, которую мы имеем на сегодняшний день, мы стараемся простым языком ее изложить. Но я знаю, что много подписчиков среди нашего рынка. Хотелось бы, конечно, чтобы это инвесторские были подписки, но вот как-то так.
Владимир Брагин: Спасибо, Маргарита.
Тогда мы переходим немножко к другой теме, посмотрим с другой стороны последние полгода. У нас такой вопрос, пусть не(?)часто поднимающийся, - ликвидность.
Я хотел попросить Дмитрия Целищева из «Риком-Траст», рассказать, как они совмещают несовместимые ЗПИФы и брокера.
Дмитрий Целищев: Добрый день, коллеги!
Это очень на самом деле ответственно и приятно от лица профсообщества брокеров выступать на этой панели.
У нас на самом деле тоже в прошлом году было очень много перемен, в том числе мы уходили от эйфории большого бизнеса с евробондами и с депозитарными расписками, возвращая все-таки фокус больше на локальный рынок, и, засучив рукава, собственно говоря, помогая клиентам совместными усилиями находить интересные какие-то инвестиционные решения и доходности на российском локальном рынке. Ну, мы сегодня не про брокерский бизнес, а про рынок коллективных инвестиций и управляющих компаний.
С конца прошлого года мы наблюдаем определенный спрос со стороны рыночных именно управляющих компаний на дистрибуцию паев закрытых фондов среди клиентов брокера. Почему это происходит? Ну, кажется очевидным, что сам ЗПИФ как инструмент коллективных инвестиций приобретает большую популярность, в том числе через вывод паев на биржу.
С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у каналов продаж управляющих компаний и классических партнеров банков тоже есть емкость. А если мы, как сегодня уже звучало, говорим про некие финансовые группы, то достаточно сложно в эту финансовую группу пробиться на полку какой-то сторонней управляющей компании рыночной, скажем так. Ну и тут, собственно говоря, в фокусе появляется ключевой партнер брокер, который помимо стандартных услуг андеррайтинга, уполномоченного инфраструктуры для первички паев, может выступать и полноценным партнером по вторичке так называемой. Причем сразу скажу, что мы говорим про фонды так называемых альтернативных инвестиций, чтобы точно избежать на полке канибализации классических брокерских продуктов…
Владимир Брагин: А можно, что именно альтернативное?
Дмитрий Целищев: Это разное. Это кирпич, ну в смысле, недвижимость, это драгметаллы, это крипта, которая сейчас набирает популярность, несмотря, что мы еще так на нее смотрим издалека, но тем не менее кажется, что это вот как раз будущее, в том числе с точки зрения предмета инвестиций.
Ну и, собственно говоря, почему брокер? Во-первых, у нас совпадает зачастую целевая аудитория. То есть клиенты брокера, они имеют уже привычку работать с достаточно большой палитрой финансовых инструментов, это, по сути, уже в ДНК у клиентов. И нам как хорошему партнеру и дорогому адвокату со стороны клиента в принципе ничто не мешает предлагать партнерские продукты.
Второй аспект - это то, что у брокерских компаний, как и у управляющих, и у банков, есть свои сейлз-форсы, есть свои команды офлайн-продаж, которые при должной мотивации и при интересной маржинальности продукта также готовы дистрибутировать и закрытые паевые инвестиционные фонды.
Но здесь, наверное, ключевое - это даже не офлайн, а скорее онлайн-продажи, потому что практически каждый брокер сейчас активно движется в сторону развития диджитал-каналов продаж. Мы говорим как про торговые терминалы, так и про «личный кабинет». Ну и, по сути, у управляющей компании есть возможность встроиться просто в десятки, а то и в сотни отдельных маркетплейсов со своим продуктом.
И третье, опять же, начиная с твоего вопроса относительно ликвидности, если думать стратегически, что, собственно говоря, мешает брокеру взять паи фонда на собственную позицию или достаточно оперативно найти покупателя среди своих клиентов, ну это, собственно говоря, и есть ликвидность, которую в том числе ищут клиенты, ну и пока, к сожалению, по большинству продуктов не могу найти.
Но это уже другая история. В общем, у меня такой короткий спич про ЗПИФы, управляющих и брокеров.
Владимир Брагин: Спасибо. На самом деле мы в эту сторону тоже наши коллеги, не мое подразделение, но вот те, кто занимаются именно ЗПИФами, тоже активно смотрят именно на вопрос каналов продаж. Потому что, действительно, альтернативные инвестиции должны быть в портфелях клиентов. И вопрос, собственно говоря, донесения и предоставления возможности удобной покупки - это тоже важно. Точнее, не то, что «тоже», а это очень важно.
И второй вопрос - по поводу вторичной ликвидности. Ну, как я понимаю, это пока вопрос будущего, да? То есть пока там… Или все-таки уже есть?
Дмитрий Целищев: Там есть тестовая история. Сейчас пройдем и потом сможем масштабировать.
Владимир Брагин: Хорошо. У меня вопрос немножко другой тогда. Если, допустим, ЗПИФ, который брокер может предлагать клиентам. Есть ли какие-то специфические там моменты, на которые вы обращаете внимание? Не знаю, ЗПИФ должен быть для квалов или это неквальный обязательно продукт? Какие классы активов, сроки опять же действия ЗПИФа?
Дмитрий Целищев: Да, ну сроки, наверное, мы все-таки стараемся совместно с партнерами обыгрывать как раз через вот эту ликвидность, которую мы обсуждаем относительно возможности достаточно быстро продать паи либо другому клиенту, либо управляющей компании. Что касается, как я уже сказал, самой начинки фонда - да, это все-таки альтернативные инвестиции, и зачастую они доступны в большинстве своем для квалифицированных инвесторов.
Если говорить про пороги входа, можно оперировать цифрами - средняя инвестиция у брокера составляет 46 тыс. рублей. Исходя из практики, в принципе, спрос там одинаковый, есть как на продукты от 100 тыс. рублей, так и от миллиона, то есть здесь в зависимости от того, что находится внутри продукта и как он позиционируется. То есть это средний маркет, это может быть вообще какая-то клубная история. То есть case by case, как говорится. Но спрос есть на них однозначно.
Владимир Брагин: Спасибо, Дмитрий.
У нас остался на первый вопрос единственный спикер, представитель Центрального банка.
Валерий, расскажите, что вы думаете про наши, скажем так, идеи? Куда двигается Центральный банк, куда двигался эти полгода, и как вообще в целом?
Валерий Красинский: Всем добрый день!
Рад уже традиционно принять участие в конференции. Спасибо, НАУФОР за приглашение.
Отдельно хочу выразить большую радость, что наша панель, мне кажется, показывает, что рынок живет все-таки не только ожиданием новых налоговых льгот от Минфина и после этого будет счастливое будущее, а все-таки очень интересные инициативы без иронии какой-либо - и про …, о чем Маргарита рассказывала, и то, что коллеги исследовали поведенческие какие-то, брокер с ЗПИФами. Я думаю, что это показывает, что рынок у нас креативный, подстраивается под интересы клиента и развивается.
Про регулирование, опять же, традиционно постараюсь рассказать, что у нас там происходило и в прошлом году, и в этом, и какие планы на следующий год.
Вот мы с нашими коллегами внутри банка заметили, что у нас по рынку коллективных инвестиций такая в регулировании немножко цикличность образовалась: мы где-то раз в пять лет приходим к тому, что нам надо вот какую-то такую ревизию более-менее комплексную сделать на уровне федерального законодательства в первую очередь. То есть не какие-то точечные улучшайзинги, которые мы стараемся каждый год делать, а именно комплексные. Вот у нас последние такие комплексные изменения были в 2019-2020 году, многие, наверное, помнят, когда мы выделы разные вводили и типовые правила меняли на требования, и доходы разрешили платить в рознице. А сейчас у нас вот этот новый цикл.
Соответственно, в 2024 году у нас был посвящен принятию законопроекта по развитию ЗПИФов, в первую очередь для квалинвесторов, в декабре он был принят. Не буду подробно останавливаться, отдельная панель будет следующая про ЗПИФы. Но там есть и несколько инициатив, которые все фонды затрагивают. Там, наверное, эта история с уведомлениями спецдепозитариев. Там, казалось бы, такой немножко операционно-технический момент, но на самом деле мы там и расчеты делали, то есть это и на Банк России, и на спецдепозитарии, и, думаю, на управляющие компании довольно существенно снимает административную нагрузку, когда вместо того, чтобы заниматься каким-то разбором мелких, несущественных нарушений, можно подумать о том, какие новые фонды предложить инвесторам.
Также каскады, уже упоминавшиеся на первой панели, которые будут действовать не только для ЗПИФов, но и при выплате дохода для розничных фондов.
Закон принят, но он вступает в силу в марте 2026 года. Соответственно, под него надо сделать целую кучу нормативных актов, мы уже первую половину года этим активно занимались, у нас уже принят акт про спецдепозитарии, про который я уже упоминал (список нарушений, о которых можно не уведомлять Банк России). Мы приняли новую форму отчета о прекращении фондов, и она также единая, не только для ЗПИФов, она для всех фондов. Постарались ее актуализировать, что-то избыточное убрать, что-то полезное добавить. Новые требования к порядку проведения общих собраний в закрытых фондах. Это из того, что уже принято. Соответственно, мы приняли, часть Минюстом зарегистрирована, часть еще нет, но ожидаем в ближайшее время.
В работе у нас сейчас изменения вот такие точечные в требовании к правилам всех типов - и отрытые, и биржевые, интервальные, закрытые, для квалинвесторов и не для квалинвесторов. Там нужно как реализовать вот те новации, которые законопроектом предусмотрены, те же самые каскадные выплаты, чтобы это все заработало. Но вот на первой панели упоминались «Финуслуги», мы, провзаимодействуя с Биржей, с управляющими компаниями, вносим тоже некоторые новации в этой части, то есть можно будет как раз расчеты проводить при погашении паев через оператора финансовой платформы, в том числе через «Финуслуги». С этим были определенные сложности, такая бесшовность, она немножко нарушалась, когда приобретался фонд на «Финуслугах», там погашение как-то более сложным путем шло. Соответственно, надеемся, что вот эти поправки, они эту проблему решат.
Также у нас впереди мы будем переиздавать акт о частичном погашении паев, уже его вывесили на публичное обсуждение. Кому это актуально, - обратите внимание.
И у нас будут еще точечные поправки в акт по раскрытию информации.
Также у нас в этом году наконец дошли руки до переиздания Постановления 2004 года № 04-5/ПС, рынок нас об этом давно просил. Свершилось почти. Акт уже первые обсуждения прошел, мы там замечания собрали, их достаточно много, сейчас дорабатываем по этим замечаниям, но надеемся, что это позволит рынку наконец уйти от вот этой бюрократии со всякими непонятными отчетами и т.д. То есть такой акт в 2004 году актуальный, сейчас, конечно, уже нет.
И в части внутреннего контроля достаточно существенно система перерабатывается на базе того опыта регулирования, который у нас уже есть у профучастников, и который мы сейчас будем внедрять в негосударственных пенсионных фондах. То есть в этом смысле этот эффект мегарегулятора, мы достаточно здесь серьезно гармонизировали требования, опять же постаралась что-то избыточное убрать, больше такого регулирования на принципах в этой части. То есть мы ставим некое регулирование результата, но не регулируем особенно как его нужно достигать, соответственно, здесь каждый из участников рынка в зависимости от своих бизнес-процессов будет это внедрять.
Ну и по розничным фондам. Тот самый консдоклад. Тоже несколько слов про него скажу. В отличие от ЗПИФов, здесь мы пошли по пути консультаций, потому что по ЗПИФам у нас все-таки был уже ряд таких инициатив на столе, более-менее понятных, актуальных, там понятно, как их реализовывать, поэтому мы сразу делали законопроект по розничным фондам. Все-таки, на наш взгляд, история более дискуссионная.
И немножко истории вопроса. То есть перед тем, как писать и выпускать доклад, мы провели ряд опросов среди ну не всего рынка, но отдельных ключевых участников, провели ряд встреч, на площадке НАУФОР в том числе, по обсуждению уже более таких отдельных инициатив. И результатом стал этот доклад. На самом деле мы, по моим ощущениям, туда включили все, что могли. То есть это все инициативы рынка, которые ну такие более-менее значимые, которые были на столе, наши какие-то наработки, международный опыт, который есть, посмотрели.
Мне кажется, этот доклад, он достаточно интересный получился. Но при этом, там тоже это отмечено, это действительно так, нам кажется, что у нас достаточно такое даже сейчас неплохое регулирование. Это не в смысле похвалить Банк России, это в смысле наша общая заслуга, потому что это регулирование в непосредственном взаимодействии со всеми вами выстраивалось. Поэтому инициативы получились, ну кроме некоторых, сейчас я про них скажу, ну, не сказать, что прямо какие-то суперреволюционные, а больше про какие-то новые возможности, про какую-то актуализацию с учетом того, что финансовый рынок тоже в целом не стоит на месте, и другие сектора куда-то идут, и нам нужно, естественно, здесь не отставать.
Опять же, из доклада, наверное, видно, что не все инициативы со стороны участников рынка для нас как для регулятора понятные, убедительные. Нет, они понятные, но не всегда они очевидные с точки зрения какого-то кост-бенефита, наверное, причем как для нас, так и для участников рынка. Думаю, что на «круглом столе» мы уже более подробно какие-то конкретные инициативы пообсуждаем.
Я бы выделил три, про них Владимир Кириллов говорил на первой панели. Это история с плечевыми фондами. Ну, это вопрос про риски. То есть идея фонда нам понятна, но при этом нам кажется, что текущее регулирование не отвечает вот тем вызовам, которые появятся, если такие фонды разрешить. Поэтому вот тот самый кост-бенефит готов ли рынок и считает ли он востребованным такое достаточно комплексное реформирование требований, в том числе к финустойчивости управляющих компаний, возможно, введения каких-то нормативов достаточности капитала, чего никогда не было на нашем рынке за все эти 30 лет, сколько он существует. Соответственно, вопрос такой достаточно дискуссионный.
История с фидерными фондами. Опять же, Владимир Кириллов говорил, что он видит в этом большой потенциал. Поэтому вот здесь кажется, что нам нужно общими усилиями в рамках консдоклада, каких-то отдельных обсуждений найти вот эту границу, где у нас заканчиваются такие, скажем так, не до конца понятные с точки зрения ценности для инвестора фонда, когда, ну то, что мы видим в доверительном управлении, когда он в стратегию просто покупает свои ПИФы и с ними особо ничего не происходит. То есть какое там доверительное управление, не до конца понятно, в чем здесь клиентская ценность доверительного управления, тоже не до конца понятно. Но при этом те самые две комиссии радостно взимаются.
И, наверное, границу между тем, чтобы у нас появились такие ПИФы еще, кроме ДУ, и теми фондами, где будет клиентская ценность, когда будет из ПИФов все-таки собираться какой-то портфель, будет какой-то эффект масштаба достигаться, там как раз и будет скорее экономия, лучший финансовый результат для инвесторов по сравнению с какими-то иными фондами. Ну, не самая простая, на мой взгляд, задача, потому что, по крайней мере пока, вот мы ждем это в ответ на доклад, мы таких вот прямо стратегий, каких-то бизнес-идей, уже окончательно оформленных, пока не видели. Но, наверное, увидим в ходе обсуждения.
И третья история - с Т0, уже такая витающая над рыком несколько лет. Но она всегда витала в виде некой идеи, которая вроде бы хорошая, все понятно, там все всё правильно говорят, у брокера я могу моментально что-то сделать, депозит я могу открыть в два клика, а паи я должен ждать 3-4 дня, что не отвечает, наверное, современным реалиям. И с точки зрения вот этой стороны этой идеи, мы ее, безусловно, поддерживаем.
Но при этом мы провели много встреч с участниками рынка, и вот непосредственно перед докладом провели такую ну не то что финальную, но такую комплексную встречу на площадке НАУФОР с УК и спецдепами, постарались разобрать все этапы процесса, они в докладе тоже описаны, эти этапы (этапы - я имею в виду процессы выдачи паев), и поняли, что задача такая, очень нетривиальная, то есть все должны очень существенно переработать свои бизнес-процессы, для того чтобы это все заработало.
И я так аккуратно скажу: нельзя сказать, что по итогам этой встречи у меня сложилось впечатление, что рынок в массе своей к этому готов в моменте. Наверное, будет готов когда-нибудь, и, может быть, сейчас мы приступим к этим историям. Вот Маргарита тоже говорила про iNAV, про регулирование, и вот мое впечатление, что сейчас проблема не столько в регулировании, сколько в бизнес-процессах. Потому что, опять же, действительно отмечалось, ну далеко не все управляющие компании выдают паи в Т+1, далеко не все. Хотя, казалось бы, здесь никаких регуляторных препятствий нет. Вот есть УК, есть спецдеп, регистратор, если это история с открытием лицевого счета нужна. Наладьте какую-то скорость, с банками договоритесь, с брокерами. Но, к сожалению, пока это не работает. И действительно, некоторые управляющие компании, даже достаточно крупные, выдают и в Т+2 и в Т+3 (Т+3 - это максимальный, я напомню, срок).
Кроме того, опять же, в докладе отмечено: у нас уже сейчас можно выдавать в Т0 по концу дня, а этого нет ни у кого. То есть если Т+1 у некоторых компаний есть по некоторым фондам, то Т0 вот такого к концу дня нет ни у кого. А мы уже начали говорить про Т0 в середине дня. Это еще более сложная задача, и каких-то готовых решений, очевидно, нет. И iNAV это тоже…
Во-первых, расчет СЧА - это важная, но далеко не единственная проблема вот в этом бизнес-процессе, которую нужно ускорить. И даже если сейчас разрешить по iNAV, хотя здесь есть свои сложности, и их тоже надо обсуждать, то ничего в Т0 не заработает. То есть тут нужно все процедуры отработать.
Ну, это я скорее не в плане какого-то пессимизма, а скорее к тому, что здесь мы ожидаем вот конкретно по этой инициативе в первую очередь от участников рынка каких-то предложений, какой-то готовности что-то менять у себя, дорабатывать.
Владимир Брагин: А можно предложение по поводу Т0 сразу?
Валерий Красинский: Давайте.
Владимир Брагин: Просто на самом деле, мне кажется, различие между БПИФом и ОПИФом очень простое: у вас есть посредник в случае БПИФа в виде уполномоченного лица и маркетмейкера. Может быть, что-то подобное подумать и в случае ОПИФа, некого буфера, который может обеспечить эту самую ликвидность Т0. Может быть, не на весь объем фонда, но хотя бы на какой-то объем?
Валерий Красинский: Ну, это вторичное обращение. Вам никто сейчас не запрещает нанять маркетмейкера. У нас же БПИФ приобретается на бирже, это вторичный рынок. Здесь как бы вопроса нет, сделайте ОПИФ с маркетмейкером, и, кстати, такие идеи у каких-то компаний…
Владимир Брагин: Но тогда это уже получается БПИФ.
Валерий Красинский: Ну нет, почему?.
Маргарита Бородатова: Это сразу удорожает обслуживание ОПИФов.
Валерий Красинский: Просто регуляторных препятствий к этому нет, я это пытаюсь сказать.
Маргарита Бородатова: Нет, регуляторные есть препятствия. Мы не можем выдать паи по сегодняшнему iNAV.
Валерий Красинский: А тут же вопрос не выдачи. Тут же вопрос - есть ли маркетмейкер.
Ну давайте про iNAV тогда скажу. С iNAV интересная история. У iNAV есть свой уровень аппроксимации, скажем так, неточности, и именно поэтому то, что мы видим у БПИФом, ну это открыто, откройте любые правила, там вот этот апсайд/даунсайд, который бид аск тот самый, он довольно широкий, и он как раз потому, что iNAV в силу упрощенности своего расчета далеко не всегда отражает то, что есть на рынке. И, соответственно, чтобы брокер, который является маркетмейкером, не получал негативный для себя ценовой арбитраж при покупке или продаже строго по iNAV, вот этот гэп, он и есть, и этот гэп 5% или 3.
Маргарита Бородатова: Три процента.
Валерий Красинский: Три, да, допустим. Ну это много. Плюс-минус 3%, коридор - 6.
Маргарита Бородатова: Ну, больше заработок, наверное, все-таки.
Валерий Красинский: Нет, мы общались с маркетмейкерами, они говорят о том, что они в том числе закрывают риски неточности iNAV. Потому что iNAV не предполагает переоценку обязательств, не по всем бумагам всегда есть какая-то актуальная цена в середине дня. Ну, тут много вопросов, то есть это опять же не в контексте какого-то пессимизма, но больше про то, что нельзя просто взять БПИФовский iNAV вместо РСП в ОПИФах вести, и будет опять же счастье. Нет, к сожалению, так это не заработает.
По Т0, опять же, давайте более подробно, наверное, на…
По докладу, просто завершая именно этот кусок, хотел сказать, что призываем всех активно участвовать, потому что как минимум три инициативы, о которых я говорил, если мы не получим какого-то понятного фидбэка, понятных предложений, то будет крайне сложно прийти к решению их реализовывать. Срок их обсуждения - до сентября, напоминаю, то есть время еще есть отреагировать. После этого мы будем намечать по итогам обсуждения доклада изменения в регулирование. Активная фаза, наверное, уже будет в 2026 году, если в закон надо что-то вносить и в нормакты, соответственно, это, наверное, 2026 год.
Про точечную историю хотел просто напомнить. Мы в прошлом году принимали изменения в акт по расчету СЧА, где увеличивали срок расчета СЧА для фондов для квалинвесторов. Но это история отложенная, и она заработает у нас с 1 января 2026 года, когда наши коллеги из департамента инфраструктуры внесут изменения в акт по спецдепам, которые увеличат сроки для спецдепа на контроль. Тоже такая новация, которую рынок очень ждал, насколько я знаю. Просто напоминаю, что с 1 января она у нас должна заработать.
Про крипту тоже хотел сказать два слова. Ольга Юрьевна в целом уже сказала, что мы в этом году в акт по составу в структуре активов ПИФ изменений вносить не будем, у нас и возможности такой ресурсной на это нет. Плюс туда нужно будет в любом случае изменения по итогам Консультативного доклада, поэтому мы хотели это все объединить, и поэтому это, наверное, уходит на следующий год. Но там нам нужно будет вместе с вами отдельно обсудить вопрос про вот этот элемент квалинвестора. Потому что я напомню, что у нас в неквальные ПИФы в определенной доле можно покупать инструменты для квалов. Насколько это должно распространяться на расчетные ПФИ и на крипту - это вопрос, требующий отдельного обсуждения. То есть если с комбинированными, условно, фондами мы в целом готовы на эту историю, и здесь вопрос, что надо внести изменения в нормативный акт, то вот вопрос, готовы ли мы видеть ПФИ на крипту в пределах тех лимитов, которые есть в неквальных фондах, это нам предстоит вместе с вами обсудить.
Спасибо.
Владимир Брагин: Забыли вы добавить, наверное, Валерий, одну вещь. Поучаствуйте(?) в обсуждении Консультативного доклада, иначе потом будет хуже. (Смех)
Валерий Красинский: Ну я примерно это сказал, просто дипломатично напомнил про 1 сентября.
Владимир Брагин: Да, поэтому всех призываем. У меня вопрос по Консультативному докладу всего один, потому что как-то вот тема фонда фондов съехала в фидерные фонды, это немножко не одно и то же. Как-то вопрос фонда фондов там можно увидеть обратно, или все-таки это пока откладывается на потом?
Валерий Красинский: А что вы имеете в виду под фондом фондов? Потому что у нас в принципе можно покупать сейчас паи не своих фондов.
Владимир Брагин: Вот. А хочется своих, как я понимаю, большинству присутствующих.
Валерий Красинский: Это как раз то, о чем я говорил про бизнес-идеи, и вот то, что мы видели в качестве предложений, в том числе от вашей управляющей компании. Это, опять же, дисклеймер, это не пессимизм, но пока мы не увидели какой-то понятной бизнес-стратегии с понятной клиентской ценностью. А начинать, наверное, надо с этого, потому что продается в хорошем смысле же рынком это под соусом, что это вот клиенту новый продукт, для него классный, с новыми перспективами по доходности, экономии на чем-то там, на масштабе. Давайте все вместе это увидим и тогда будет проще дискутировать.
Владимир Брагин: Позиция понятна.
У нас немножко времени осталось, наверное, минут 15. Долгосрочно мы уже не сможем второй вопрос обсудить, который запланировали. Поэтому я предлагаю перейти к третьему.
Краткий блиц-опрос - кто, что ожидает по рынку на ближайшие полгода - приток, отток, переток, какое поведение клиента мы ожидаем в свете снижения ставки?
Я предлагаю начать с Митюкова Евгения. То есть очередность сохраним второго вопроса, но пойдем по блицу.
Евгений Митюков: Владимир, спасибо.
Пока мы видим, как я уже отметил, что поезд поехал в сторону снижения ставки, и вот это используется как некий питч для клиентов. Дальше уже вопрос продуктов, как более маржинальные как бы это продается клиентам более активно, какие-то менее маржинальные, они продаются менее активно. Но суть остается в том, что переток из некого такого консервативного позиционирования в чуть более как бы агрессивный на рынке облигаций, он действительно происходит. Да, туда идет не «тело», «тело» депозитов обычно остается в депозитах, это некое золотое правило нашего инвестора. Но проценты действительно, которые накапали в виде дохода, они так или иначе переходят в более рисковую форму. Сначала это будут облигации, потом это будут, наверное, все-таки уже и акции.
Владимир Брагин: Ну то есть вы за приток? Вы говорите про приток в коллективные инвестиции от депозитов?
Евгений Митюков: От процентов по ним. Депозитов… такого счастья ждать не стоит, что какие-то триллионы перейдут из депозитов на фондовый рынок, ну он захлебнется просто. Нет, там это будут все-таки сотни миллиардов, наверное, на интервале ближайшей пары лет.
Владимир Брагин: Дмитрий, вы хотели рассказать немножко про иностранных инвесторов. Ждете их приток сюда при каких-то условиях, или как? И при каких?
Дмитрий Целищев: Да, конечно, ждем. Я на самом деле с Евгением согласен. То есть определенный переток из депозитной базы, он произойдет. Но опять же, если смотреть на статистические данные, то у нас пока еще массовый инвестор не дозрел до фондового рынка. Может быть, я буду немножко антагонистом, но за три года у нас чуда не случилось, и физические лица не стали той движущей силой, которая бы взяла и полноценно заместила иностранный капитал, который ушел. Ну, это, собственно говоря, понимают и в правительстве.
Если кто не обратил внимания, то в начале июля, по-моему, 1-го числа, президент подписал 436 указ, который, по сути, начинает либерализацию по возврату иностранного капитала на российский рынок, что отрадно. Одинаковые практически сейчас условия по счетам типа «Ин» будут как для инвесторов из дружественных, так и из недружественных стран. И да, мы, в том числе, как брокер делаем ставку на этот возврат и ожидаем там триллионы, скорее, не миллиарды. Потому что, напомню, у нас еще есть задача глобальная с вами удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году, ну и кажется, что просто ресурсами, опять же антагонистически, но ресурсами физических лиц только мы это не сделаем.
Владимир Брагин: Понятно. То есть иранский сценарий не сработал, переходим к плану «Б». Хорошо.
Олег, ваше слово, вы что думаете?
Олег Горанский: Да, Владимир, мы тоже верим в притоки, правда, больше, наверное, верим в притоки из депозитов. Но я также хочу немножко затронуть тему долгосрочных продуктов, потому что история о том, что у нас есть задача по удвоению финансового рынка. Она есть, ее надо как-то решать. Вот мы видим, что ее надо решать несколькими путями. В первую очередь мы сейчас активно прорабатываем и пытаемся оформить в виде какой-то пояснительной записки концепцию появления аналога американских счетов типа 401(к) - это инструмент для квалифицированных инвесторов, которые могут, например, попробовать управлять своей пенсией через НПФ. То есть в НПФах открывать для инвесторов, кто желает получить такую услугу, счета, на которых они могут инвестировать в ОПИФы и БПИФы самостоятельно, без экспертизы самого НПФа. Мы считаем, что эта услуга будет достаточно востребована, особенно среди квалифицированных и состоятельных инвесторов.
Также мы очень настроены, хотя нам намекают о том, что говорить про налоги здесь не очень хорошо, но я все-таки про них скажу. Мы очень хотим продвинуть идею тематических ИИСов, которые можно будет открывать под конкретные цели. То есть это либо образование детей, либо покупка квартиры, машины, какой-то большой покупки, о которой ты будешь заявлять в ФНС, и под эту историю будет открываться индивидуальный инвестиционный счет с определенными льготами. Это позволит решить целый ряд проблем. В частности, это позволит инвесторам потрогать долгосрочные продукты и получить хотя бы первые или развить существующие знания о долгосрочных продуктах, ну и сделать накопления, а также приток длинных денег на финансовый рынок сделать более вероятным.
Также мы активно выступаем за то, чтобы семейные ИИС-ОПИФ появились, то есть то, о чем мы уже сегодня говорили, о том, что родители могли бы открывать на детей продукты, которые смогли бы раскрыться только при достижении ими 18-летнего возраста и быть потрачены на образование, покупку жилья или какие-то еще необходимые нужды при взрослении ребенка.
Владимир Брагин: То есть имеется в виду материнский капитал на фондовый рынок?
Олег Горанский: Материнский капитал, мне кажется, можно зачислять на ИИС, если того хочет семья. Мне кажется, это был бы правильный жест.
Владимир Брагин: Спасибо.
У нас теперь Владимир. Расскажите, может быть, немножечко еще и про ДСЖ, мы так и не успели этого вообще коснуться.
Владимир Сердюков: Коллеги основное про притоки сказали уже.
Но вот если продолжить тему, то что начал Олег, про то, что мы хотим больше видов ИИСов, больше видов налоговых стимулов и т.д., мы очень детально обсуждали на Конгрессе Банка России в июле этот вопрос. И вы знаете, мы там смотрели исследование, если не ошибаюсь, по-моему, американское исследование было, что различные налоговые стимулы и дополнительные продукты дают примерно 90% веса для того, чтобы долгосрочные инвестиции развивались. А 10% - это финансовая грамотность.
У нас же, как показывают данные, скорее обстановка обратная. То есть сейчас сколько бы ни предлагай новых ИИСов, новых налоговых стимулов и т.д., к сожалению, они не работают в том размере, как работают, например, в более развитых экономиках. Сорри, за такое слово, но тем не менее. У нас 90% занимает как раз таки формирование уровня доверия клиентов к долгосрочным инвестициям. Продукты есть, инфраструктура есть, можно менять нюансы, добавлять и т.д., но пока не сформируется доверие, к сожалению, говорить о том, что существенный приток долгосрочных сбережений, я считаю, что в ближайшее время не стоит ожидать существенный.
Про ДСЖ в двух словах хотел рассказать про преимущества и т.д. ДСЖ. Но ДСЖ - долевое страхование жизни - является довольно-таки неплохим продуктом, который новый на рынке. Честно, еще не все с ним успели ознакомиться нормально, в полной мере поработать. Это сочетание, в принципе, страхования и инвестиций, где клиент самостоятельно выбирает ту или иную стратегию инвестирования. Есть нюансы, сейчас не буду вдаваться в нюансы, но я думаю, что многие знают: там есть ограничения в части выбора стратегии и т.д. Но я смотрю на этот продукт как дополнительный еще один вариант, инструмент, который не канибализирует клиентов открытых биржевых ПИФов и ПДСа того же самого. Это является одним из инструментов долгосрочных инвестиций.
Продукт нормальный, продукт адекватный, он займет, я считаю, свою нишу определенную. У нас по итогам 2024 года, если не ошибаюсь, life уже обогнал по объему страховых сборов, страховых резервов non-life. В мире такая же тенденция, где-то примерно тоже была оценка в начале года, когда запускали ДСЖ, что до конца года примерно объем будет 200-250 млрд. Ну то есть объем рынка довольно-таки неплохой, займет свой сегмент.
Есть нюансы в части управления: это управляет страховая компания сама, получая лицензию, либо управляется через управляющую компанию. Наша группа идет в направлении, что это будет от управляющей компании все-таки исходить вся инвестиционная экспертиза. Ну, продукт нормальный. Один из инструментов.
Владимир Брагин: Спасибо, Владимир.
Маргарита, вам слово как представителю самых долгосрочных продуктов, как вы видите в длину все, и что вам мешает или не мешает?
Маргарита Бородатова: Произойдет какая-то корреляция между рынком депозитов и фондовым рынком, это совершенно очевидно.
Я бы, наверное, хотела два слова сказать про дистрибуцию. Если мы говорим о продаже розничным инвесторам, мы должны обеспечить технологии и центры дистрибуции. Сегодня вот мы лично столкнулись… Ну, понятно, что крупные экоструктуры, они стараются максимально свои продукты продавать, и это, наверное, правильно. Но все-таки инвестор должен иметь на любой площадке доступ к инструментам, которые сегодня на рынке есть. Если мы не добьемся этого результата, мы затормозим развитие рынка, потому что это барьер очень существенный.
Мы, знаете, с чем столкнулись? Я не буду называть одну группу, которая работает с широкой розницей. Когда они увидели, что наши продукты востребованы и идет определенный поток в нашу сторону, они просто убрали продукты со своей витрины. Я считаю, что это недобросовестная конкуренция, с которой тоже, может быть, Центральному банку нужно посмотреть и поработать.
Но, пользуясь случаем, что я сижу рядом с Валерием, можно я все-таки маленький и, может быть, для рынка это будет очень полезный вопрос. Служба внутреннего контроля прямо мне письмо даже написала на почту. О чем письмо? За последние полгода мы получили от Центрального банка, от Центра по обработке отчетности Твери шесть предписаний. И так это грозно звучит: «Предписание Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации». Сейчас я вам буду рассказывать какие-то нарушения, и вы увидите. Наша инициатива заключается в том, что я очень уважительно отношусь к работе Центрального банка, потому что считаю, что это прямо вот двигатель нашего рынка, и он задает тренды, которые мы, хотим или не хотим, но идем в этом направлении и развиваем.
Но вот есть какой-то процент надзора, который формализован, который достаточно для нас… Я считаю, что можно его немножко упростить. Приведу вам примеры.
Значит, нарушаем законодательство Российской Федерации. Четыре из них - это неправильное название юрлица. В чем это выражается? В том, что по ЕГРЮЛу у тебя, например, форма собственности написана в начале, а в отчетности, я не знаю, попала в конце, или наоборот. Вот четыре.
Одно нарушение. Компания, у нее есть «уил» в названии (я не буду всю компанию называть), они 25 июня поменяли название «и» на «й» - это нарушение законодательства.
И еще, наверное, я думаю, что многие управляющие компании с этим столкнулись. Отправляли отчетность за март № 6292-У. Разъяснение Центрального банка, оно с нарушением законодательства о том, что согласно ЕГРЮЛ ты должен дополнять в ДУ название фонда. Значит, первую мы формируем отчетность… Ну вот, зал, поддержите меня! (Аплодисменты).
Значит, мы отправляем отчетность. 1 апреля выходит разъяснение о том, что вот ну не надо делать эту приставку. И нам приходит предписание по поводу сданной мартовской отчетности о том, что мы нарушили законодательство Российской Федерации. Мы услышали, и апрельскую отчетность, конечно бы, сдали с учетом этих разъяснений. Но, ребята, ну мартовскую-то физически невозможно сделать.
Я считаю, что давайте все коллективно попросим Центральный банк вот эти технические всякие недочеты, которые по существу не влияют на суть, мне кажется, можно обозначить не как нарушение законодательства Российской Федерации, а как предписание на исправление технических ошибок. Это будет, наверное, правильно и корректно. (Аплодисменты)
Знаете, что я еще хочу добавить? Дело в том, что это же не просто предписание. Мы же с вами понимаем, что любое предписание - это колоссальный объем формальной работы, и вот это занимает достаточно большое количество времени.
Валерий, прямо вот к вам как к представителю…
Владимир Брагин: Хочется поддержать Валерия в этой ситуации.
Валерий Красинский: Как бы так ответить, чтобы камни в меня не начали кидать после аплодисментов Маргарите. Завтра поеду в Москву на «Сапсане», он проходит через Тверь, видимо, придется выйти в Твери и спросить их.
Коллеги, смотрите, из-за того, что это не совсем по моей кафедре, сразу говорю, но, естественно, я попробую ответить. Во-первых, у нас по законодательству, вы это прекрасно знаете, только ограниченный набор форм мер воздействия, поэтому как называется предписание, оно называется так, как оно названо в законе. Назвать его по-другому это как бы… Если честно, я не совсем понимаю, что это дает по смыслу. Я сразу скажу, я не большой специалист в отчетности. Что я знаю: центр в Твери - это первичная входная точка отчетности, и у них высокая степень автоматизации. Почти все, что они делают в части мер воздействия и т.д. - это автоматизированный контроль. То есть это не то, что там сидит какая-то армия людей, которая выискивает, что «и» поменялась на «й», а вы не поменяли, ай-ай-ай. И потом ему за это премию выписывают, за то, что он это нашел.
Маргарита Бородатова: Нет-нет, мы это прекрасно понимаем.
Валерий Красинский: То есть это автоматизированная история. И я думаю, что и мои коллеги из департамента отчетности и мои коллеги из моего департамента, которые занимаются надзором, отчетностью, будут готовы, безусловно, провести какой-то диалог на эту тему. Я просто не знаю, какое здесь может быть решение.
Маргарита Бородатова: Нет, вот решение рынок предлагает.
Маргарита Бородатова: Да-да. Это может быть просто уведомление.
Владимир Брагин: Коллеги, у нас как-то дискуссия съехала уже совсем не туда. Давайте я на правах модератора возьму слово…
Валерий Красинский: Я бы предложил просто собрать подобного рода проблемы и от лица НАУФОР направить их в Банк России. Мы, соответственно, вместе с коллегами постараемся более комфортный какой-то режим найти здесь. Я совершенно не пытаюсь какого-то бюрократа включать здесь.
Владимир Брагин: Спасибо, Валерий. На самом деле я думаю, что и все согласятся, что когда у нас возникают подобного рода вопросы, это говорит о зрелости определенной рынка. Потому что когда у вас автоматизирован даже надзор, ну автоматизация, она приводит к тому, что часто количество работы увеличивается, как показывает практика, по крайней мере на первом этапе. Поэтому давайте все-таки наберемся терпения. Я надеюсь, Центральный банк тоже с нами в одной лодке, они тоже за то, чтобы рынок рос и их регулирование нам не мешало. Но тоже хотелось бы, чтобы Центральный банк быстрее реагировал на наши боли, в том числе.
Давайте поблагодарим наших участников. Спасибо. Надеюсь, всем было интересно.
Спасибо.
На главную |
III сессия |
|---|