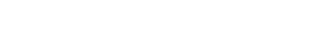Круглый стол
12.08.2025
На главную |
|---|
Стенограммы
Круглый стол |
|---|
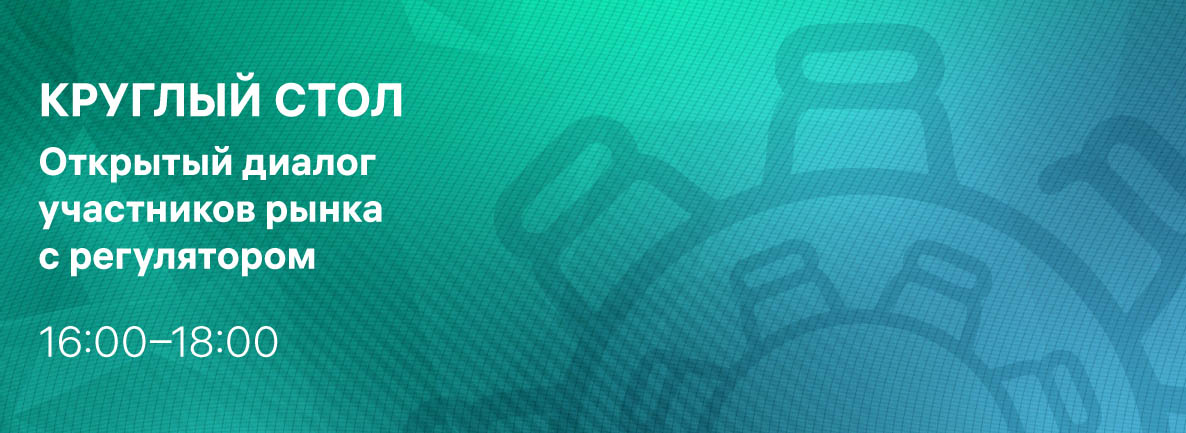

К обсуждению: вопросы инфраструктуры РКИ, расчет СЧА, взаимодействие при регистрации ПДУ, отзывы и комментарии участников к Докладу по развитию розничных ПИФ, работа ЗПИФ-А и др.
Участники: | |
| 1. Арбатова Лариса, генеральный директор УК Финстар-Капитал | |
| 2. Арефьев Александр, советник директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России | |
| 3. Блохин Борис, управляющий директор по фондовому рынку ПАО Московская биржа | |
| 4. Вергун Елена, генеральный директор АО "НКК" | |
| 5. Воеводина Наталья, Финансовый университет при Правительстве РФ | |
| 6. Володина Анна, управляющий директор по развитию продуктов корпоративного бизнеса НРД | |
| 7. Галимнуров Альберт, генеральный директор УК БКС | |
| 8. Горанский Олег, директор по правовым вопросам УК «Первая» | |
| 9. Еркина Екатерина, заместитель генерального директора Т-Капитал | |
| 10. Есаулкова Татьяна, генеральный директор СДК «Гарант» | |
| 11. Жидков Виктор, председатель правления ПАО Московская Биржа | |
| 12.Кириллов Владимир, исполнительный директор «ВИМ инвестиции» | |
| 13. Красинский Валерий, заместитель директора департамента - начальник управления регулирования департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России | |
| 14. Кубушка Кирилл, генеральный директор АО «Центротраст» | |
| 15. Медведева Татьяна, руководитель центра развития законодательства и правовых инициатив ВЭБ РФ | |
| 16. Нейман Петр, директор по рискам и ИТ «УК Частные Активы» | |
| 17. Прасс Павел, генеральный директор Специализированного депозитария «ИНФИНИТУМ» | |
| 18. Пронин Кирилл, директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России | |
| 19. Руссов Михаил, генеральный директор ААА Управление капиталом | |
| 20.Семенихин Роман, генеральный директор УК «Ингосстрах-Инвестиции» | |
| 21. Сердюков Владимир, генеральный директор УК ПСБ | |
| 22. Тимофеев Алексей, президент НАУФОР (модератор) | |
| 23. Фомичев Илья, генеральный директор «Центральный Депозитарий Фондов» | |
| 24. Целищев Дмитрий, управляющий директор ИК Риком-Траст | |
| 25. Черных Екатерина, генеральный директор ООО «СФН» | |
| 26. Швайковский Николай, заместитель генерального директора УК «Альфа-Капитал» | |
| 27. Шишлянникова Ольга, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России |
На главную |
|---|